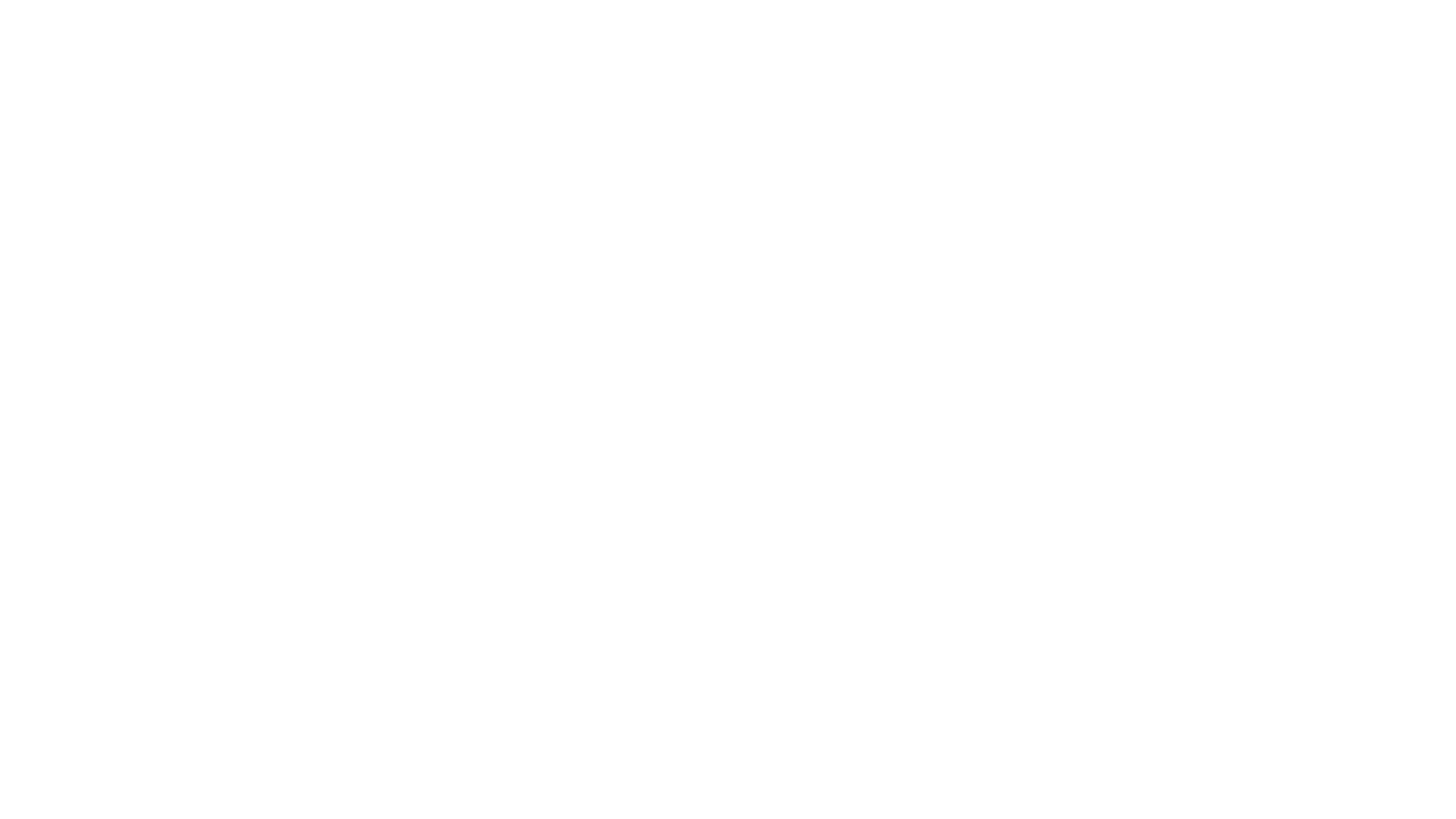
Мария Тухватулина – Текстура бытия
(69 стежков / Ольга Сульчинская. - М.: Воймега : Ростов-на-Дону : Prosodia, 2023. - 92 с.)
Мария Тухватулина – поэт, критик, филолог. Финалист премии «Лицей», лауреат литературных фестиваля имени Л.И. Ошанина и Н.М. Якушева, финалист Филатов Феста. Автор книги «Полынь и полынья» (изд-во СТиХИ, 2024). Стихи публиковалась в журналах «Бельские просторы», «Волга XXI век», на портале «Лиterraтура», в альманахах «Литературные знакомства» и «Образ». Живёт в Москве.
Четвертая по счету книга Ольги Сульчинской вышла спустя 10 лет после предыдущей. Ее концепция отличается — в буквальном смысле слова — особой текстурой. Каждый из трех разделов символически соотносится с разными тканями: лён, шерсть и шёлк. Такова материя художественного мира Сульчинской — практикующего психолога и автора журнала Psychologies.
Игривое название сборника (речь о количестве стихотворений, хотя для меня осталось загадкой, зачем их надо было пронумеровать) — гарант внутренней свободы и раскованности поэта, но строки Мандельштама в одном из эпиграфов показывают, что высоких нот и классики автор тоже не чурается, - здесь же, кажется, оставлен первый «стежок»: цитата из стихотворения, хранящего в себе, в свою очередь, отсылку к поэме Гомера — это своего рода шов «назад иголку», только в пространстве культуры. Сами стихи редко требуют вникать в дополнительный контекст и расшифровывать сложные символы, поэтому концептуальность не перегружает сборник, дополняет и делает более стройным ряд его смыслов. Несмотря на простую структуру и изобилие точных рифм, стихи полны реминисценций, расширяющих пространство до космического и играющих не решающую, но и не последнюю роль при заявке на принадлежность к большой литературе.
Названия разделов апеллируют к осязанию читателя: каждое полотно — это, в первую очередь, разные тактильные ощущения. Грубоватая простота льна, слегка колючие, но связанные с любовью шерстяные варежки, прохладный и невесомый шелк — вот из чего сшито единое полотно человеческой судьбы.
Каждая часть сопровождается информационной справкой: так, лён неприхотлив, всё, что ему нужно — это лишь длинный световой день. На протяжении недолгой жизни растение теребят, высушивают, молотят… Предисловие о шерсти намекает, что речь пойдет о сфере бессознательного, где неизбежны мифологические сюжеты и мотивы из сновидений, ведь шерсть использовали еще первобытные люди — и нить тянется сквозь века — из Вавилонского царства, по древним берегам Оки… Шерсть дарит тепло зимой, а мифологические сюжеты — утешение перед лицом Вечности. Образы-архетипы помогают романтизировать не прошлое, а саму действительность, испокон веков дают человеку надежду, что не весь он канет в Лету. Дорогой шёлк капризен в уходе, даже капля воды оставляет на нем следы. Стихотворения этого раздела отличаются особой изысканностью формы, живописностью образов.
Лирический герой первой трети сборника покорен судьбе: это и отвыкшая мечтать о счастье женщина, и люди, застигнутые врасплох воспоминаниями о безвозвратном:
...Нечего думать. Но переводные картинки
Вдруг увлажняются — и оживают ботинки,
Машут шнурками, сияют нетронутой кожей
И рядом с маминой парой гордятся в прихожей.
Первая любовь становится только поводом для того, чтобы запомнить «время и место»: запахи хлорки, детского сада, школьной столовой, вывеску старой галантереи. Люди «льна» о собственных несбывшихся надеждах говорят «без драмы», не ропщут, даже осмысляя неизбежный исход, даже здесь находится место проблеску надежды:
Не зови себя именем жажды -
Реки ходят незваными в гости.
И кого мы любили однажды,
Будут с нами и после.
Смерть в стихах Сульчинской прячется между строчек, слова о ней заглушает журчание воды и шепот ветра:
Я воды беспечный собиратель
И сквозных созвучий решето.
Может, я однажды умиратель -
Но пока не твёрдо решено.
Созерцание становится способом противостояния ей, - то, что на первый взгляд кажется наивным подхихикиванием, оказывается творческим манифестом. Но когда смерть обретает конкретные черты, «игра в слова» заканчивается:
Мне страшно, мама! В очереди этой
Я за тобой была — а вот теперь
Я первой стала. Как себя вести,
Мне неизвестно...
Когда роль творца, стихотворца, вечного ребенка уже не спасает, то новой опорой становится род, память о предыдущих поколениях, их конкретный опыт преодоления испытаний вплетается в исторический контекст — и учит смирению.
Я доволен судьбой, он писал, я с тобой
Счастлив был, я доволен судьбой.
Не грусти, если вдруг не случится вестей.
Обнимаю тебя и детей.
Это дедушка мой моей бабушке так
На бумаге со штампом «Табак
Средневысший» писал в середине зимы.
Осуждённый писал с Колымы.
Одно из стихотворений посвящено последним дням жизни Марины Цветаевой в Елабуге. Вроде бы, не отличающееся особой уникальностью — ведь так много уже существует поэтических переложений этой трагичной судьбы и примеров подражания синтаксису Цветаевой, да и рифма «НКВД / быть беде», сама по себе тянущая на моностих, в 20 строчках практически тонет — и расплывается. Вроде, мы ничего нового не узнали и не почувствовали:
И бессонные отходят ко сну,
Бесприютные находят приют,
Ветры северные валят сосну,
А безвинных всё равно отпоют.
Было уже сотни раз — но в композиции сборника стихотворение занимает чёткое место, и не только потому что перекликается с приветом от дедушки с Колымы. Поднятая еще раз, тема смирения утверждается, а мотив человека в колесе истории расширяется до переосмысления буквально каждой судьбы.
23 стихотворения раздела «Шерсть» объединены обращениям к глубинам прапамяти:
Америго, амиго, где берег найду я?
Вслед за Данаей вздрагивает Леда…
Сквозь меня проплывают народы,
Шевеля плавниками веков…
Послания из глубины веков доказывают, что время — понятие условное:
Крепче кремня, упорней ремня,
Не греми у Кремля кандалами.
Атлантида, не мучай меня,
Не вставай над волнами.
Два текста, расположенные в середине книги, становятся также ее смысловым ядром. Здесь голос автора принимает непривычную для читателя тональность — даже кажется, что злую:
Послы в железной бане парятся,
Они по-своему неправы.
А князь в истории пиарится,
Творя веселые расправы.
...Всё как одно к другому вяжется:
Изнаночная-лицевая,
Еще не скоро сказка скажется,
Мерцают угли, дотлевая...
«Песни конформистов» вторят «Историческим заметкам»:
Повезло нам, правда? С нас поутру
Не срезают розовую кожуру,
Не бросают в подсоленный кипяток,
Нас берут заботливо под локоток...
Кажется, что вывернули почти на максимум некий регулятор, с которым ранее автор была осторожна. Позже похожие «ноты» зазвучат в стихотворении об апостоле Петре «Обвинение»:
Римский ОМОН поддерживает закон,
Он приближается сразу со всех сторон,
Он говорит строго: почему крик?
Баба прикусывает язык.
К сожалению или к счастью, у Сульчинской нет цели звучать до крайности злободневно — просто несколько кроваво-красных стежков на по-прежнему спокойном фоне. «В сухожильях шумеры хрустят», на грани яви и сна является мальчик с палочкой, которой он пишет на песке свои послания миру.
Поэтика «Шёлка» как целостного раздела трудноуловима, ускользающа. Этот раздел — самый яркий стилистически. Здесь и красота Венеции глазами путешественника, и блёстки похмельного утра — первого в году. Даже не прочитав название следующего стихотворения, догадаешься - «Живопись»:
Девушка гладит кошку, тонко режет лимон
Говорит с торговкой, пробует кардамон
Сочиняет письмо, покусывает перо,
Перламутровым тускло поблескивает бюро.
В стихах Сульчинской неоднократно упоминаются созвездия: при любви автора к мифологии — это практически реминисценции из «Метаморфоз» Овидия, но она идёт дальше — и «звёздный» сюжет становится самостоятельным, книга и ночное небо буду распахнуты друг перед другом:
Как много созвездий! Как будто оставили следующего
Пролитые слёзы над играми мальчиков взрослых.
Но сохнут. И небо бледнеет, и скоро рассвет,
И светлые блики волна оставляет на вёслах.
Движение от тьмы к свету — не фигура речи в контексте стихов Ольги Сульчинской, а практически пошаговое руководство. Но дело не в «прикладной психологии», чего опасаешься поначалу — поэт показывает, что в мире искусства человек никогда не одинок, это важнее недостижимого бессмертия, это искупает эфемерность житейского благополучия.
Хочется счастья. Но счастья у нас не бывает.
Или любви. Но ее не бывает на свете, —
крайне простыми словами говорится не о чаяньях отдельной лирической героини, но о вневременном и общечеловеческом. Но без героя не могло обойтись — он приглашает нас к диалогу — точнее, ко вдумчивому вслушиванию, делится опытом беспристрастного самоанализа, обычно принимает облик женщины — так и видишь ее в тени комнаты, с умной книгой на подлокотнике кресла. Потому что именно речь, ее поток, интонации и, собственно, полотно — самое главное в этой книге.
Игривое название сборника (речь о количестве стихотворений, хотя для меня осталось загадкой, зачем их надо было пронумеровать) — гарант внутренней свободы и раскованности поэта, но строки Мандельштама в одном из эпиграфов показывают, что высоких нот и классики автор тоже не чурается, - здесь же, кажется, оставлен первый «стежок»: цитата из стихотворения, хранящего в себе, в свою очередь, отсылку к поэме Гомера — это своего рода шов «назад иголку», только в пространстве культуры. Сами стихи редко требуют вникать в дополнительный контекст и расшифровывать сложные символы, поэтому концептуальность не перегружает сборник, дополняет и делает более стройным ряд его смыслов. Несмотря на простую структуру и изобилие точных рифм, стихи полны реминисценций, расширяющих пространство до космического и играющих не решающую, но и не последнюю роль при заявке на принадлежность к большой литературе.
Названия разделов апеллируют к осязанию читателя: каждое полотно — это, в первую очередь, разные тактильные ощущения. Грубоватая простота льна, слегка колючие, но связанные с любовью шерстяные варежки, прохладный и невесомый шелк — вот из чего сшито единое полотно человеческой судьбы.
Каждая часть сопровождается информационной справкой: так, лён неприхотлив, всё, что ему нужно — это лишь длинный световой день. На протяжении недолгой жизни растение теребят, высушивают, молотят… Предисловие о шерсти намекает, что речь пойдет о сфере бессознательного, где неизбежны мифологические сюжеты и мотивы из сновидений, ведь шерсть использовали еще первобытные люди — и нить тянется сквозь века — из Вавилонского царства, по древним берегам Оки… Шерсть дарит тепло зимой, а мифологические сюжеты — утешение перед лицом Вечности. Образы-архетипы помогают романтизировать не прошлое, а саму действительность, испокон веков дают человеку надежду, что не весь он канет в Лету. Дорогой шёлк капризен в уходе, даже капля воды оставляет на нем следы. Стихотворения этого раздела отличаются особой изысканностью формы, живописностью образов.
Лирический герой первой трети сборника покорен судьбе: это и отвыкшая мечтать о счастье женщина, и люди, застигнутые врасплох воспоминаниями о безвозвратном:
...Нечего думать. Но переводные картинки
Вдруг увлажняются — и оживают ботинки,
Машут шнурками, сияют нетронутой кожей
И рядом с маминой парой гордятся в прихожей.
Первая любовь становится только поводом для того, чтобы запомнить «время и место»: запахи хлорки, детского сада, школьной столовой, вывеску старой галантереи. Люди «льна» о собственных несбывшихся надеждах говорят «без драмы», не ропщут, даже осмысляя неизбежный исход, даже здесь находится место проблеску надежды:
Не зови себя именем жажды -
Реки ходят незваными в гости.
И кого мы любили однажды,
Будут с нами и после.
Смерть в стихах Сульчинской прячется между строчек, слова о ней заглушает журчание воды и шепот ветра:
Я воды беспечный собиратель
И сквозных созвучий решето.
Может, я однажды умиратель -
Но пока не твёрдо решено.
Созерцание становится способом противостояния ей, - то, что на первый взгляд кажется наивным подхихикиванием, оказывается творческим манифестом. Но когда смерть обретает конкретные черты, «игра в слова» заканчивается:
Мне страшно, мама! В очереди этой
Я за тобой была — а вот теперь
Я первой стала. Как себя вести,
Мне неизвестно...
Когда роль творца, стихотворца, вечного ребенка уже не спасает, то новой опорой становится род, память о предыдущих поколениях, их конкретный опыт преодоления испытаний вплетается в исторический контекст — и учит смирению.
Я доволен судьбой, он писал, я с тобой
Счастлив был, я доволен судьбой.
Не грусти, если вдруг не случится вестей.
Обнимаю тебя и детей.
Это дедушка мой моей бабушке так
На бумаге со штампом «Табак
Средневысший» писал в середине зимы.
Осуждённый писал с Колымы.
Одно из стихотворений посвящено последним дням жизни Марины Цветаевой в Елабуге. Вроде бы, не отличающееся особой уникальностью — ведь так много уже существует поэтических переложений этой трагичной судьбы и примеров подражания синтаксису Цветаевой, да и рифма «НКВД / быть беде», сама по себе тянущая на моностих, в 20 строчках практически тонет — и расплывается. Вроде, мы ничего нового не узнали и не почувствовали:
И бессонные отходят ко сну,
Бесприютные находят приют,
Ветры северные валят сосну,
А безвинных всё равно отпоют.
Было уже сотни раз — но в композиции сборника стихотворение занимает чёткое место, и не только потому что перекликается с приветом от дедушки с Колымы. Поднятая еще раз, тема смирения утверждается, а мотив человека в колесе истории расширяется до переосмысления буквально каждой судьбы.
23 стихотворения раздела «Шерсть» объединены обращениям к глубинам прапамяти:
Америго, амиго, где берег найду я?
Вслед за Данаей вздрагивает Леда…
Сквозь меня проплывают народы,
Шевеля плавниками веков…
Послания из глубины веков доказывают, что время — понятие условное:
Крепче кремня, упорней ремня,
Не греми у Кремля кандалами.
Атлантида, не мучай меня,
Не вставай над волнами.
Два текста, расположенные в середине книги, становятся также ее смысловым ядром. Здесь голос автора принимает непривычную для читателя тональность — даже кажется, что злую:
Послы в железной бане парятся,
Они по-своему неправы.
А князь в истории пиарится,
Творя веселые расправы.
...Всё как одно к другому вяжется:
Изнаночная-лицевая,
Еще не скоро сказка скажется,
Мерцают угли, дотлевая...
«Песни конформистов» вторят «Историческим заметкам»:
Повезло нам, правда? С нас поутру
Не срезают розовую кожуру,
Не бросают в подсоленный кипяток,
Нас берут заботливо под локоток...
Кажется, что вывернули почти на максимум некий регулятор, с которым ранее автор была осторожна. Позже похожие «ноты» зазвучат в стихотворении об апостоле Петре «Обвинение»:
Римский ОМОН поддерживает закон,
Он приближается сразу со всех сторон,
Он говорит строго: почему крик?
Баба прикусывает язык.
К сожалению или к счастью, у Сульчинской нет цели звучать до крайности злободневно — просто несколько кроваво-красных стежков на по-прежнему спокойном фоне. «В сухожильях шумеры хрустят», на грани яви и сна является мальчик с палочкой, которой он пишет на песке свои послания миру.
Поэтика «Шёлка» как целостного раздела трудноуловима, ускользающа. Этот раздел — самый яркий стилистически. Здесь и красота Венеции глазами путешественника, и блёстки похмельного утра — первого в году. Даже не прочитав название следующего стихотворения, догадаешься - «Живопись»:
Девушка гладит кошку, тонко режет лимон
Говорит с торговкой, пробует кардамон
Сочиняет письмо, покусывает перо,
Перламутровым тускло поблескивает бюро.
В стихах Сульчинской неоднократно упоминаются созвездия: при любви автора к мифологии — это практически реминисценции из «Метаморфоз» Овидия, но она идёт дальше — и «звёздный» сюжет становится самостоятельным, книга и ночное небо буду распахнуты друг перед другом:
Как много созвездий! Как будто оставили следующего
Пролитые слёзы над играми мальчиков взрослых.
Но сохнут. И небо бледнеет, и скоро рассвет,
И светлые блики волна оставляет на вёслах.
Движение от тьмы к свету — не фигура речи в контексте стихов Ольги Сульчинской, а практически пошаговое руководство. Но дело не в «прикладной психологии», чего опасаешься поначалу — поэт показывает, что в мире искусства человек никогда не одинок, это важнее недостижимого бессмертия, это искупает эфемерность житейского благополучия.
Хочется счастья. Но счастья у нас не бывает.
Или любви. Но ее не бывает на свете, —
крайне простыми словами говорится не о чаяньях отдельной лирической героини, но о вневременном и общечеловеческом. Но без героя не могло обойтись — он приглашает нас к диалогу — точнее, ко вдумчивому вслушиванию, делится опытом беспристрастного самоанализа, обычно принимает облик женщины — так и видишь ее в тени комнаты, с умной книгой на подлокотнике кресла. Потому что именно речь, ее поток, интонации и, собственно, полотно — самое главное в этой книге.



