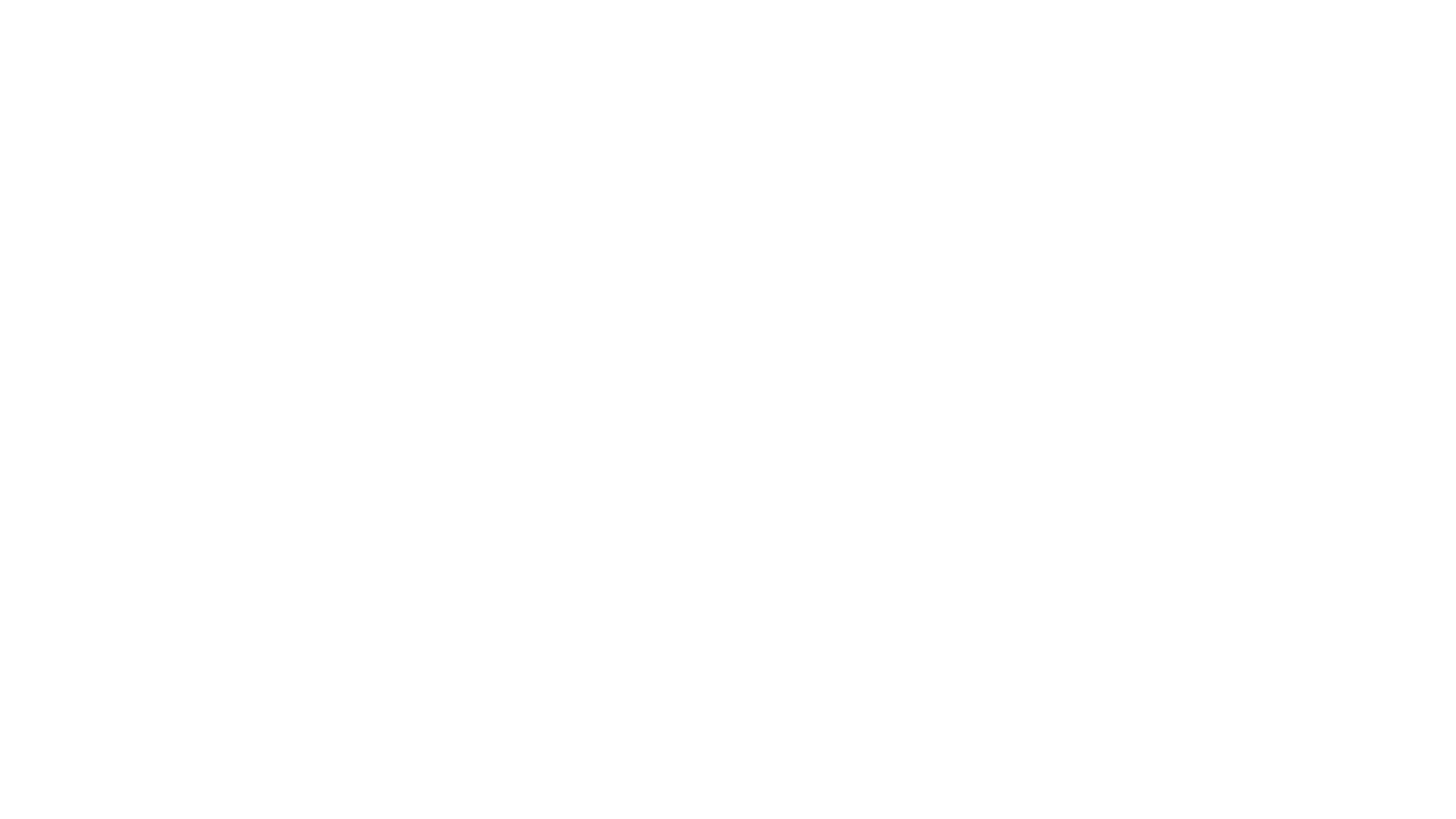
Анатолий Васильев – Гимн полистилистике
(о стихотворении Нины Искренко)
Нина Искренко широко известна в узких саратовских кругах. Родилась она в городе Петровск Саратовской области, однако считать это имя региональным достоянием неправильно. В середине 1980-х Нина Искренко была членом клуба «Поэзия», в который входили главные поэты конца XX века: Дмитрий Александрович Пригов, Алексей Парщиков, Александр Ерёменко, Иван Жданов, Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский и другие.
Задолго до клуба эти имена объединила поэтическая студия Кирилла Ковальджи, сформировавшаяся в 1980 году при журнале «Юность», в котором он заведовал отделом критики. Благодаря ему и состоялись первые публикации Нины Искренко и других поэтов клуба в журнале «Юность». В дальнейшем её стихи печатались в альманахах «Поэзия» и «День поэзии», журналах «Аврора» и «Волга». На 1990-е приходится период наиболее активной деятельности Нины Искренко: в 1991 выходят в свет её первые сборники «Или», «Референдум» (оба ‒ в Москве) и «Несколько слов» (в Париже); она готовит собрание стихотворений, организует публичные поэтические акции, читая стихи в метро и палеонтологическом музее, электричке «Москва ‒ Петушки» и в первом в Советском Союзе «Макдональдсе»[1]. Казалось, вот-вот, и это будет одна из самых значимых и самобытных фигур современности. Но обнаруженный случайно в ходе рядового обследования рак груди не позволил поэтессе воплотить планы в жизнь. В 1995 году Нина Искренко скончалась.
За прошедшие 30 лет о Нине Искренко написаны статьи в Большой российской энциклопедии, журналах «Prosodia», «Формаслов», «Знамя», «Новое литературное обозрение». Поэт, журналист Андрей Сокульский посвятил ей главу в антологии саратовской поэзии, а Надя Делаланд ‒ книгу «Сказочная биография Нины Искренко». Ряд немногочисленный, и, кажется, среди вершинных имён постсовестского авангарда Нину Искренко легко не заметить. Но, по воспоминаниям Евгения Бунимовича, этого не случилось:
«Нина Искренко выламывалась из всех рамок, с редкой грацией и свободой мешала в стихах трамвайную лексику с библейской, она отстаивала право на ошибку, сбивала ритм, теряла рифмы и знаки препинания, писала поперек и по диагонали, оставляла пробелы, зачеркивания, оговорки и проговорки, говорила на своем, только ей присущем языке»[2].
Такое позиционирование не нашло сторонников при жизни. Она всегда сталкивалась с «вечным непониманием и разладом с читателем, слушателем, неизменными записками из зала: “Вы думаете, что это поэзия?!”, небрежением и невниманием критики»[3]. Всё новое, размывающее общепринятые границы вызывает отторжение на инстинктивном уровне. Только спустя время ясно, почему и зачем подобное возникает в искусстве.
На одну из причин указал К.Ковальджи в предисловии к первой публикации авторов клуба «Поэзия»:
«Они из так называемого “задержанного поколения”, их нетрадиционная манера, уязвленная склонность к иронии, сарказму или замкнутости были следствием недавнего прошлого, осознанным или неосознанным протестом против духовной рутины и общественного застоя»[4].
Об Искренко критик пишет: «Н. Искренко увлечена пересечением жанров, “полистилистикой”, уловлением современного информационного вихря; отсюда приёмы, которые к одной лишь поэзии не отнести»[5].
«Полистилистика» ‒ определение самой Нины Искренко, разработанное в её известном «Гимне полистилистике»:
Полистилистика
это когда средневековый рыцарь
в шортах
штурмует винный отдел гастронома № 13
по улице Декабристов
и куртуазно ругаясь
роняет на мраморный пол
«Квантовую механику» Ландау и Лифшица
Новое в искусстве ‒ результат преодоления кризиса, возникающего вследствие автоматизации прежних поэтических идей и форм. В концептуализме, главном направлении русской поэзии конца XX века, они не разрушались, но наполнялись другим, «непоэтичным» содержанием («В густых металлургических лесах…» Ерёменко). Нина Искренко, идя по тому же пути, отказывается от категории художественной целостности, о чём вспоминал Бунимович. «Полистилистика», право на которую она отстаивала, ‒ это не только сочетание разных стилей, но и отказ от единого стиля: определённой тематики и проблематики, преобладающего пафоса, выработанной поэтики.
В рамках работы проекта «Срез классики», организуемого Андреем Сергеевым с 2024 года на базе модельной библиотеки №9 и посвящённого умершим русским поэтам, для анализа было предложено стихотворение, написанное Ниной Искренко в 1990 году:
***
Смерть
это белая бабочка ночью на стуле
Ночью в саду темнота три кота и ведро с купоросом
Выдь на дорогу нудит циркулярка над лесом
словно тряпичная баба качает дитя на вокзале
Белая бабочка спит возле самой постели
Спит или дремлет не бьётся не сыплет опилки
Смерть идеальна в пропорциях детской заколки
Мягкий комок и припудренных крыльев гантели
Ты ли не ангел в прокушенной молью шинели
или театр изнывающий в каждой прожилке
глупая вечность в своем нескончаемом шёлке
или ночная дешёвка вповалку на стуле
Толстые лилии ставит на полку тряпичная кукла
Бабьи обмотки летают белеют как грязные птицы
Сон переходит свои звуковые границы
пудренным лбом ударяясь в оконные стёкла
30.06.90 ‒ 1.07.90
Стихотворение разворачивает лирический сюжет о матери, сошедшей с ума от потери ребёнка. Ключевое слово, обозначающее его тему, стоит над всем текстом; белая бабочка ‒ образ смерти, незаметной и потому всегда неожиданной. Хронотоп определён бытовыми деталями: «Ночью в саду темнота три кота и ведро с купоросом», «нудит циркулярка над лесом», «бабочка спит возле самой постели». Они не фигурируют единожды, а повторяются, создавая единство, завершённость, кольцевую композицию: «циркулярка над лесом» ‒ «не сыплет опилки», «баба качает дитя» ‒ «в пропорциях детской заколки», «тряпичная баба ‒ тряпичная кукла». Они развивают основное действие, вплетаются в образную систему стихотворения, раскрываются по-новому.
Сравнение пения пожилой матери со звуками работы лесопилки с первого взгляда кажется странным, но, когда читатель узнаёт, что мать качает мёртвого младенца, становится оправданным. Так же разворачивается образ бабочки, которая «не бьётся не сыплет опилки». Глагол «не бьётся» употребляется при констатации смерти: «сердце не бьётся». «Опилки» служат признаком сопоставления человека и дерева: из дерева можно изготовить памятные вещи, тогда как воспоминания об ушедшем человеке не могут послужить подобным материалом, от них не остаётся «опилок».
В третьей строфе, построенной на параллелизме, Нина Искренко изображает, как люди переживают утрату: впадают в отчаяние или притворяются, что всё в порядке, хранят память о человеке с собой или отпускают его. Любопытен выбор образов для этой художественной задачи. Ангел в её стихотворении ‒ измученное существо «в прокушенной молью шинели», утратившее божественный вид. Синтезом метонимии и оксюморона создаётся образ театра ‒ места искусственных действ с внешней сценой и кулисами, «изнывающего в каждой прожилке». В последних двух стихах слова низких лексических слоёв («ночная дешёвка вповалку на стуле») и эпитеты к высоким словам («глупая вечность в своём нескончаемом шёлке») указывают на позицию Искренко: она даёт людям право на внутреннюю свободу ‒ право испытывать и выражать любые, даже негативные чувства, не боясь мнения других.
Финал стихотворения иначе раскрывает его главную героиню: пожилая женщина, лишившись ребёнка, утратила себя, стала «куклой». Её обмотки «летают белеют как грязные птицы», а сон, в котором она каждый раз переживает один и тот же страшный эпизод, только напоминает ей о пережитом.
Постоянное присутствие смерти Нина Искренко реализует через фонетический уровень стиха. Как смерть пронизывает жизнь, поджидает в любой момент, так и стихотворение пронизывают звуки, образующие слово «смерть»:
Смерть
это белая бабочка ночью на стуле
Ночью в саду темнота три кота и ведро с купоросом;
Белая бабочка спит возле самой постели
Спит или дремлет не бьётся не сыплет опилки
Толстые лилии ставит на полку тряпичная кукла
Бабьи обмотки летают белеют как грязные птицы
Образом смерти, ключевым в стихотворении, ‒ летающим существом, мотивирован повтор звука «л». Все рифмующиеся слова имеют его и другие звуки в своём составе: «стуле ‒ вокзале», «постели ‒ гантели», «опилки ‒ заколки», «шинели ‒ шёлке», «кукла ‒ стёкла» и т.д. По этой же причине в последней строфе возникают лилии, изначально уже имеющие семантику смерти.
Интересно сформирована и структура стихотворения, преодолевающая инерцию поэтической формы: стройные катрены и тяжёлый дактиль контрастируют с диссонансной рифмовкой, сниженной лексикой («выдь», «нудит», «баба», «дешёвка», «вповалку», «обмотки»), отсутствием знаков препинания. Рифменная система стихотворения, образованная существительными, грамматически однообразна, но оригинальна по созвучию. К подобному приёму обращался Иосиф Бродский, оживляя свой монотонный трёхстопный стих резкими, грубыми анжамбеманами. Нина Искренко решает эту художественную задачу по-своему: противостояние ‒ мотив как смысловой, лежащий в основе лирического сюжета (переживание смерти), так и структурообразующий, объединяющий элементы формы текста.
Дисгармоничная поэтика стихотворения ‒ попытка сохранить самоконтроль, не потерять себя, переживая смерть: структурированность одних уровней (строфический и ритмический) противопоставлена неструктурированности других (рифменный). Этим обоснован и отказ от пунктуации, популяризированный в современной поэзии. Он помогает иначе связать слова, выйти за языковые рамки, по-новому понять стихотворение. Благодаря ему связи возникают между словами не только одного стиха, но и двух разных:
Смерть идеальна в пропорциях детской заколки
Мягкий комок и припудренных крыльев гантели[6]
Отсутствие пунктуации в стихотворении Нины Искренко выполняет и другую художественную функцию. Объект поэтического высказывания ‒ человеческие чувства, и расстановка знаков препинания, упорядочивающая его, маркирующая границы языковых сочетаний и связь между словами, указывает, что субъект не потерял контроль над собой, своими чувствами, тем, что происходит с ним. В стихотворении Нины Искренко отсутствие знаков препинания свидетельствует о пошатнувшемся психологическом состоянии героини.
Авангард на изломе советской эпохи был попыткой преодолеть послеоттепельный кризис общества и литературы. Шестидесятников, стоявших в центре внимания, сменило другое поколение, более осторожное, скептичное, наследовавшее иную литературную традицию. Поэты-концептуалисты трансформировали общепринятые поэтические формы, переосмысляя их семантику, наполняя иным, «непоэтичным» содержанием.
Нина Искренко, находясь в этом кругу, по-своему работала со словом. Ей было мало устоявшихся норм: их преодоление было не самоцелью, а осознанным расширением границпоэтичного, возможностей поэтического языка. Она показывала, что целостность ‒ необязательный критерий творчества, что поэзия может создаваться иначе, из другого жизненного и языкового материала. Её децентрализованная поэтика «полистилистики» ‒ яркий пример того, что автор вправе принимать любое художественное решение, но оно всегда должно выполнять какую-либо функцию, быть необходимым для его поэтического текста.
Задолго до клуба эти имена объединила поэтическая студия Кирилла Ковальджи, сформировавшаяся в 1980 году при журнале «Юность», в котором он заведовал отделом критики. Благодаря ему и состоялись первые публикации Нины Искренко и других поэтов клуба в журнале «Юность». В дальнейшем её стихи печатались в альманахах «Поэзия» и «День поэзии», журналах «Аврора» и «Волга». На 1990-е приходится период наиболее активной деятельности Нины Искренко: в 1991 выходят в свет её первые сборники «Или», «Референдум» (оба ‒ в Москве) и «Несколько слов» (в Париже); она готовит собрание стихотворений, организует публичные поэтические акции, читая стихи в метро и палеонтологическом музее, электричке «Москва ‒ Петушки» и в первом в Советском Союзе «Макдональдсе»[1]. Казалось, вот-вот, и это будет одна из самых значимых и самобытных фигур современности. Но обнаруженный случайно в ходе рядового обследования рак груди не позволил поэтессе воплотить планы в жизнь. В 1995 году Нина Искренко скончалась.
За прошедшие 30 лет о Нине Искренко написаны статьи в Большой российской энциклопедии, журналах «Prosodia», «Формаслов», «Знамя», «Новое литературное обозрение». Поэт, журналист Андрей Сокульский посвятил ей главу в антологии саратовской поэзии, а Надя Делаланд ‒ книгу «Сказочная биография Нины Искренко». Ряд немногочисленный, и, кажется, среди вершинных имён постсовестского авангарда Нину Искренко легко не заметить. Но, по воспоминаниям Евгения Бунимовича, этого не случилось:
«Нина Искренко выламывалась из всех рамок, с редкой грацией и свободой мешала в стихах трамвайную лексику с библейской, она отстаивала право на ошибку, сбивала ритм, теряла рифмы и знаки препинания, писала поперек и по диагонали, оставляла пробелы, зачеркивания, оговорки и проговорки, говорила на своем, только ей присущем языке»[2].
Такое позиционирование не нашло сторонников при жизни. Она всегда сталкивалась с «вечным непониманием и разладом с читателем, слушателем, неизменными записками из зала: “Вы думаете, что это поэзия?!”, небрежением и невниманием критики»[3]. Всё новое, размывающее общепринятые границы вызывает отторжение на инстинктивном уровне. Только спустя время ясно, почему и зачем подобное возникает в искусстве.
На одну из причин указал К.Ковальджи в предисловии к первой публикации авторов клуба «Поэзия»:
«Они из так называемого “задержанного поколения”, их нетрадиционная манера, уязвленная склонность к иронии, сарказму или замкнутости были следствием недавнего прошлого, осознанным или неосознанным протестом против духовной рутины и общественного застоя»[4].
Об Искренко критик пишет: «Н. Искренко увлечена пересечением жанров, “полистилистикой”, уловлением современного информационного вихря; отсюда приёмы, которые к одной лишь поэзии не отнести»[5].
«Полистилистика» ‒ определение самой Нины Искренко, разработанное в её известном «Гимне полистилистике»:
Полистилистика
это когда средневековый рыцарь
в шортах
штурмует винный отдел гастронома № 13
по улице Декабристов
и куртуазно ругаясь
роняет на мраморный пол
«Квантовую механику» Ландау и Лифшица
Новое в искусстве ‒ результат преодоления кризиса, возникающего вследствие автоматизации прежних поэтических идей и форм. В концептуализме, главном направлении русской поэзии конца XX века, они не разрушались, но наполнялись другим, «непоэтичным» содержанием («В густых металлургических лесах…» Ерёменко). Нина Искренко, идя по тому же пути, отказывается от категории художественной целостности, о чём вспоминал Бунимович. «Полистилистика», право на которую она отстаивала, ‒ это не только сочетание разных стилей, но и отказ от единого стиля: определённой тематики и проблематики, преобладающего пафоса, выработанной поэтики.
В рамках работы проекта «Срез классики», организуемого Андреем Сергеевым с 2024 года на базе модельной библиотеки №9 и посвящённого умершим русским поэтам, для анализа было предложено стихотворение, написанное Ниной Искренко в 1990 году:
***
Смерть
это белая бабочка ночью на стуле
Ночью в саду темнота три кота и ведро с купоросом
Выдь на дорогу нудит циркулярка над лесом
словно тряпичная баба качает дитя на вокзале
Белая бабочка спит возле самой постели
Спит или дремлет не бьётся не сыплет опилки
Смерть идеальна в пропорциях детской заколки
Мягкий комок и припудренных крыльев гантели
Ты ли не ангел в прокушенной молью шинели
или театр изнывающий в каждой прожилке
глупая вечность в своем нескончаемом шёлке
или ночная дешёвка вповалку на стуле
Толстые лилии ставит на полку тряпичная кукла
Бабьи обмотки летают белеют как грязные птицы
Сон переходит свои звуковые границы
пудренным лбом ударяясь в оконные стёкла
30.06.90 ‒ 1.07.90
Стихотворение разворачивает лирический сюжет о матери, сошедшей с ума от потери ребёнка. Ключевое слово, обозначающее его тему, стоит над всем текстом; белая бабочка ‒ образ смерти, незаметной и потому всегда неожиданной. Хронотоп определён бытовыми деталями: «Ночью в саду темнота три кота и ведро с купоросом», «нудит циркулярка над лесом», «бабочка спит возле самой постели». Они не фигурируют единожды, а повторяются, создавая единство, завершённость, кольцевую композицию: «циркулярка над лесом» ‒ «не сыплет опилки», «баба качает дитя» ‒ «в пропорциях детской заколки», «тряпичная баба ‒ тряпичная кукла». Они развивают основное действие, вплетаются в образную систему стихотворения, раскрываются по-новому.
Сравнение пения пожилой матери со звуками работы лесопилки с первого взгляда кажется странным, но, когда читатель узнаёт, что мать качает мёртвого младенца, становится оправданным. Так же разворачивается образ бабочки, которая «не бьётся не сыплет опилки». Глагол «не бьётся» употребляется при констатации смерти: «сердце не бьётся». «Опилки» служат признаком сопоставления человека и дерева: из дерева можно изготовить памятные вещи, тогда как воспоминания об ушедшем человеке не могут послужить подобным материалом, от них не остаётся «опилок».
В третьей строфе, построенной на параллелизме, Нина Искренко изображает, как люди переживают утрату: впадают в отчаяние или притворяются, что всё в порядке, хранят память о человеке с собой или отпускают его. Любопытен выбор образов для этой художественной задачи. Ангел в её стихотворении ‒ измученное существо «в прокушенной молью шинели», утратившее божественный вид. Синтезом метонимии и оксюморона создаётся образ театра ‒ места искусственных действ с внешней сценой и кулисами, «изнывающего в каждой прожилке». В последних двух стихах слова низких лексических слоёв («ночная дешёвка вповалку на стуле») и эпитеты к высоким словам («глупая вечность в своём нескончаемом шёлке») указывают на позицию Искренко: она даёт людям право на внутреннюю свободу ‒ право испытывать и выражать любые, даже негативные чувства, не боясь мнения других.
Финал стихотворения иначе раскрывает его главную героиню: пожилая женщина, лишившись ребёнка, утратила себя, стала «куклой». Её обмотки «летают белеют как грязные птицы», а сон, в котором она каждый раз переживает один и тот же страшный эпизод, только напоминает ей о пережитом.
Постоянное присутствие смерти Нина Искренко реализует через фонетический уровень стиха. Как смерть пронизывает жизнь, поджидает в любой момент, так и стихотворение пронизывают звуки, образующие слово «смерть»:
Смерть
это белая бабочка ночью на стуле
Ночью в саду темнота три кота и ведро с купоросом;
Белая бабочка спит возле самой постели
Спит или дремлет не бьётся не сыплет опилки
Толстые лилии ставит на полку тряпичная кукла
Бабьи обмотки летают белеют как грязные птицы
Образом смерти, ключевым в стихотворении, ‒ летающим существом, мотивирован повтор звука «л». Все рифмующиеся слова имеют его и другие звуки в своём составе: «стуле ‒ вокзале», «постели ‒ гантели», «опилки ‒ заколки», «шинели ‒ шёлке», «кукла ‒ стёкла» и т.д. По этой же причине в последней строфе возникают лилии, изначально уже имеющие семантику смерти.
Интересно сформирована и структура стихотворения, преодолевающая инерцию поэтической формы: стройные катрены и тяжёлый дактиль контрастируют с диссонансной рифмовкой, сниженной лексикой («выдь», «нудит», «баба», «дешёвка», «вповалку», «обмотки»), отсутствием знаков препинания. Рифменная система стихотворения, образованная существительными, грамматически однообразна, но оригинальна по созвучию. К подобному приёму обращался Иосиф Бродский, оживляя свой монотонный трёхстопный стих резкими, грубыми анжамбеманами. Нина Искренко решает эту художественную задачу по-своему: противостояние ‒ мотив как смысловой, лежащий в основе лирического сюжета (переживание смерти), так и структурообразующий, объединяющий элементы формы текста.
Дисгармоничная поэтика стихотворения ‒ попытка сохранить самоконтроль, не потерять себя, переживая смерть: структурированность одних уровней (строфический и ритмический) противопоставлена неструктурированности других (рифменный). Этим обоснован и отказ от пунктуации, популяризированный в современной поэзии. Он помогает иначе связать слова, выйти за языковые рамки, по-новому понять стихотворение. Благодаря ему связи возникают между словами не только одного стиха, но и двух разных:
Смерть идеальна в пропорциях детской заколки
Мягкий комок и припудренных крыльев гантели[6]
Отсутствие пунктуации в стихотворении Нины Искренко выполняет и другую художественную функцию. Объект поэтического высказывания ‒ человеческие чувства, и расстановка знаков препинания, упорядочивающая его, маркирующая границы языковых сочетаний и связь между словами, указывает, что субъект не потерял контроль над собой, своими чувствами, тем, что происходит с ним. В стихотворении Нины Искренко отсутствие знаков препинания свидетельствует о пошатнувшемся психологическом состоянии героини.
Авангард на изломе советской эпохи был попыткой преодолеть послеоттепельный кризис общества и литературы. Шестидесятников, стоявших в центре внимания, сменило другое поколение, более осторожное, скептичное, наследовавшее иную литературную традицию. Поэты-концептуалисты трансформировали общепринятые поэтические формы, переосмысляя их семантику, наполняя иным, «непоэтичным» содержанием.
Нина Искренко, находясь в этом кругу, по-своему работала со словом. Ей было мало устоявшихся норм: их преодоление было не самоцелью, а осознанным расширением границпоэтичного, возможностей поэтического языка. Она показывала, что целостность ‒ необязательный критерий творчества, что поэзия может создаваться иначе, из другого жизненного и языкового материала. Её децентрализованная поэтика «полистилистики» ‒ яркий пример того, что автор вправе принимать любое художественное решение, но оно всегда должно выполнять какую-либо функцию, быть необходимым для его поэтического текста.
[1] См.: Искренко, Н. Ю. Я просто буду рядом / Н. Ю. Искренко; вступ. Е. А. Бунимович // Арион. 1995. №2. С. 120.
[2] Там же
[3] Там же
[4] Ковальджи, К. В. Впереди ‒ дорога / К. В. Ковальджи // Юность. 1987. №4. С. 54
[5] Там же, с. 55
[6] Это не опечатка: текст стихотворения проверен в нескольких источниках
[2] Там же
[3] Там же
[4] Ковальджи, К. В. Впереди ‒ дорога / К. В. Ковальджи // Юность. 1987. №4. С. 54
[5] Там же, с. 55
[6] Это не опечатка: текст стихотворения проверен в нескольких источниках



