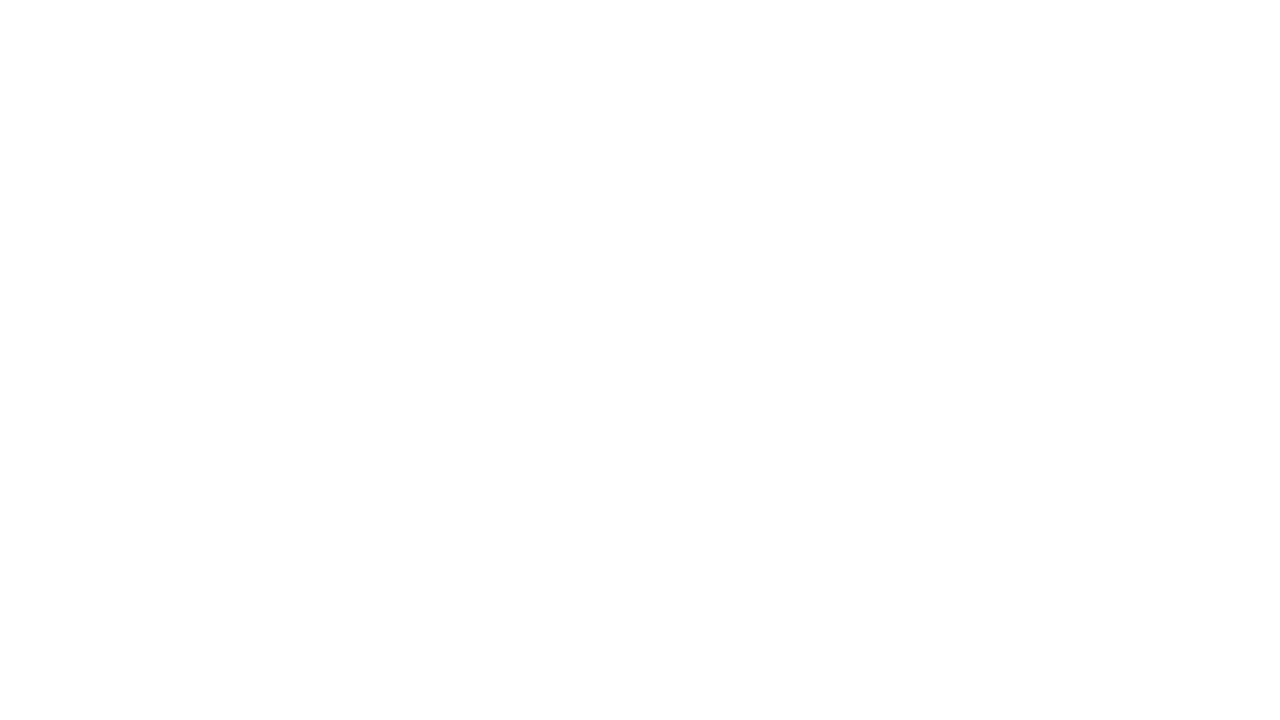
Кирилл Ямщиков - Ударение на первый слог
(О книге Марии Леонтьевой «Свили», М.: «СТиХИ», 2023).
От последнего здесь многое. Вот, к примеру, открывающее книгу перечисление:
Стальные, каменные, важные
Над Волгой плыли облака.
Качались зонтики бумажные,
Венчая горы из песка.
В этом трудно не усмотреть рыжевской восприимчивости к простоте, от которой так норовит откреститься Большое и Торжественное. Простота эта, замечу, не примитивистского свойства – скорее тянущаяся к античной всеобщности, универсальности:
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.
Хрестоматийной простоты в стихах Леонтьевой достаточно – важно и то, что акцента, ставки на них не делается; возрождение речевой органики обуславливает непритворность стиля. Баланс, удерживаемый «Свили», говорит о намеренном выходе за рамки поэтической конкретизации – и попытке (не всегда удачной) синхронизироваться с запросами, вызовами времени.
Традиционное, дачно-упадочное обрывает иная стилевая порода – верлибр, в книге почти не встречающийся и оттого так сильно заметный. Здесь вспоминается уже легендарная антология «Время Икс», образцово-показательный дистиллят новаторства поверх классического метода. Бурич, по памяти пересказывающий Ружевича; Леонтьева, пишущая акварелью поверх эпифаний Метса.
Просто так доступная красота:
Музыка мрамора, цедра любви.
Не уверен, могут ли эти верлибры хорошо читаться в отрыве от соседствующих с ними рифм и метров; чересчур наглядна потребность в смене методологии, «опрокидывании» готовых конструкций речи. Так или иначе, все эти зарисовки служат пониманию общего замысла, но едва ли являются самоценными высказываниями.
Любопытно растягивание повествовательного ритма, внедрение хаоса в домострой инструментария. Колотые рифмы; разбавленное, водянистое время. Отчасти напоминает Айзенберга, отчасти – раннего Гандельсмана.
Убеждённость в правоте эксперимента? Возможно. Однако не всегда эта убеждённость даёт нам верную оптику и глубину, ибо, будем честны, строки по типу:
Жить внезапно незачем. Но ок,
начинаем с чистого листа, –
нарочито ходульны и как бы «своевременны», перетянуто просты. В этом-то и чувствуешь ложную, криво взятую ноту; нечто из первых стихов Рыжего, стремившихся одновременно и к формальной суггестии, и к самой что ни на есть бурлацкой откровенности с читателем («до самой сути»). Первое в привязке ко второму нивелирует цену высказывания, его конкретность.
Мне, конечно, неловко повсюду вспоминать Рыжего – но его влияние на дачно-упадочное безукоризненно, как безукоризненна погода за окном или сам воздух, которым мы дышим; можно, чуть схитрив, увернуться и выявить общность с уральской школой, в частности – с Юрием Казариным, от пиренейской дисциплинированности которого здесь тоже немало грусти и свободы:
Потом шёл град, и разные мелькали
Детали на заснеженном пруду.
Едва ли уловимые детали,
Придуманные Господом в бреду.
Это едва ли не лучшее стихотворение книги и вместе с тем чистая, без дураков, поэзия, ледяной ветер из обители богов (о том ли писали древние мексиканцы?), как никак ярче характеризующий дарование Леонтьевой – и её возможное, пролегающее за чертой ближайших «упражнений в стиле», целеполагание.
Северные, калёные строки: живое и вневременное. Таких высказываний не может быть много – по их суетной природе; оттого и кажется, что удача в книге возникает редко, беспричинно. Ощущение это ложное; почти целиком «Свили» выдерживает поставленную перед собой тяжесть, поставленные перед собой высоты, лишь иногда – и кажется, что нарочно, – уходя в эксперимент имени эксперимента, где «рифма спотыкается чуток».
И свет горит, и блики на полу.
И никогда, мой друг, я не умру.
Останусь тонкой веточкой в углу,
Жучком, грызущим мёртвую кору.
Надрыв Рыжего без самого Рыжего – любопытно, последовательно, задорно; но – много ли в этом чисто авторского? Полипы цитирования, полипы серьёзного чтения поэзии – когда понимаешь, что человек, пишущий хорошо, не менее хорошо понимает стихию избранного им стиля, – несколько умаляют оригинал, превознося право тени.
Когда я выпью и умру,
сирень качнётся на ветру,
и навсегда исчезнет мальчик,
бегущий в шортах по двору.
Впрочем, все мы – так или иначе – заложники стилизации; ведь наследуем, обязательно наследуем – тому, вероятно, прачеловеку, что решился однажды сравнить яблоко с облаком, или подобрать, быть может, резкое, звучное слово для чего-нибудь туманного и неясного. «Свили» доказывает правоту тени; и похвала ей кажется всего лишь неминуемым ритуалом.
Спорадические вспышки силы – северный ветер – по-прежнему ошарашивают там, где, кажется, ошарашивать не должны. Леонтьева обладает тонким ремеслом словосочетания, когда тесная подгонка буквы к букве иной раз побеждает готовое высказывание. В одном предложении – «У спящего – снежинка на щеке», – до того много всего (пустоты, холода, тепла, Бога – и отсутствия Бога), что остальное, идущее следом, попросту ненужно.
Лично у меня эта строка назойливо ассоциируется с хлебниковским «Русь, ты вся – поцелуй на морозе!». Как сказать точней, как сказать ярче? Север, холод и слепое солнце прорываются сквозь эти незатейливо спаянные слова. И кто, справедливости ради, помнит, что дальше идёт: «Синеют ночные дорози»? Тщета необязательности.
«Свили» Марии Леонтьевой – чудо, старательно возделанное на пустоши традиционного взгляда, книга умелая, тонкая и, как я написал в начале, воздушная. Есть хрестоматийные строки – есть хрестоматийные интонации. Разумеется, порой здесь чересчур много Других – голосов на окоёме восприятия, людей из исторического прошлого поэзии, не только создавших, но и выдрессировавших традицию; но как обойтись без них – и нужно ли? – если всё равно удаётся сказать важное, беспрекословно живое?
Останусь, не останусь, лепесток
Летит сквозь снег и тьму наискосок.
И я лечу, лечу тотчас за ним
Сквозь смерть и дым, мой друг. Сквозь смерть и дым.



