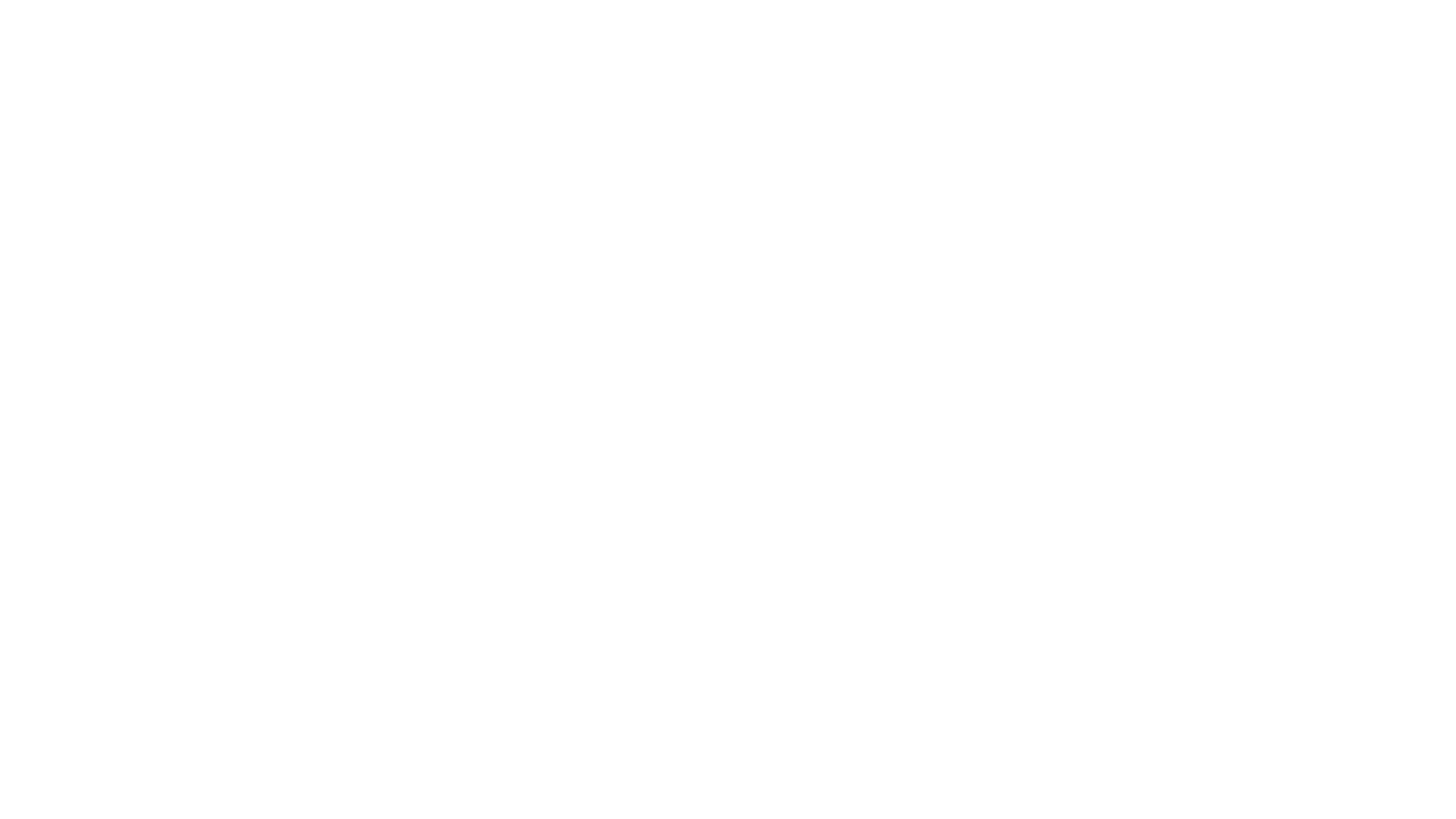
Мария Затонская ‒ Современные бараки
(о подборке Андрея Пермякова «Помянем», ж. Волга, 7/2023)
Мария Затонская – поэт, главный редактор литературного журнала «Пролиткульт». Победитель Национальной премии «Русские рифмы», 2019, победитель Международной литературной премии им.Анненского, 2021, финалист премии им.Фазиля Искандера, 2023. Публиковалась в журналах «Арион», «Новый мир», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая юность», «Урал», «Дружба народов» и др. Автор книг стихов: «Дом с птицами» (М., «Эксмо», 2020), «Миниатюры» (М., «СТиХИ», 2021), «Люди идут по облаку» (М., «СТиХИ», 2023). Живёт и работает в Сарове.
Зачем они ходят по кругу
Антигерой в литературе и отталкивает, и одновременно привлекает: шпана, бандит, алкоголик, будоражит мозжечок, то ли это храбрость, то ли такая слабость. Кажется, он бросает вызов существующей гармонии:
Я проживаю жизнь, веруя в Чебурашку.
В чебурашку, который бутылка, но и в живого тоже.
Алкоголик, преданный своему делу, — не бог весть какой возвышенный персонаж. Язык ломанный: «...чебурашку, который бутылка...». Но не всё так просто и бытово, как может показаться. «Я проживаю жизнь» — стихотворение начинается с этого откровения, которое настраивает на высокую ноту. А как тянется: «про-жи-ва-ю жизнь», гулко и длинно. Здесь работает не только семантика, но и мелодика (пронизывающие «жи», тревожные и долгие, как дрожь).
И пока эта фраза плывёт наверху, подобно облаку, внизу разворачивается человеческий ад, который страшен своей невыразительной будничностью:
Ну, правда? Жили-пили. Не царило
меж нами никакое сильно зло.
Засим Сергея электричеством убило.
А дальше вон чего произошло.
Так заканчивается второе стихотворение, тихо, фактологически. Но концовку как будто оборвали — а что произошло-то? Об этом сказано в его же начале:
Ты поседел? Ходи седой.
Ты полысел? Ходи как надо.
Ну, вот и вся твоя награда
за долгий подвиг непростой.
Получается фокус такой: стихотворение призывает нас ходить по кругу, как в докучной сказке про попа и собаку. И чем дольше ходишь, тем больше обречённость, потому что не вырваться. Только если сделать шаг в сторону, но – куда? Как?
Беспросветность тянется через всю подборку, и её причина – в повторяемости жизни вокруг, в таком заикании, когда будто собираешься наконец полностью произнести прекрасное длинное слово (например, «ли-ри-чес-кий»), набухающее слогами, как виноградная гроздь, но получается только первый, а дальше — сбиваешься, и приходится начинать сначала.
Только колёсики переменяются на тишину
и водоём за окошком меняется на водоём.
Так и поеду, доколе в смерть не усну.
Кажется, что вся проблема в жизни вокруг, но суть-то, конечно, не в ней:
Ещё издаёшь вполне лучезарное пение.
Но всё равно ты подобен оленю.
И протрезвевши, останешься таковым:
Глупым, живым.
Всё дело в тебе, человек, человечек, маленький и – дурак. Генетически эта поэзия обращена к лианозовской школе. Однако, если там гипербытовая поэтика разворачивается, чтобы продемонстрировать духовную катастрофу и абсурдность послесталинской эпохи (обнажить быт, быт как факт), то Пермяков всё же более лиричен; кажется, что быт только средство, отправная точка, оттолкнувшись от которой, стих обрастает лирикой, чтобы рассказать нам о нашем времени, вечных категориях жизни и смерти и той бессмысленности, с которой человек растрачивает звонкое и живое, что окружает его:
Люди знают, как выглядит выстрел, как результаты выстрела,
но всё равно стреляют. Стреляют довольно точно.
То есть не из любопытства, не ради быстрого
насыщения, а просто результативно и мощно.
Внешне это стихотворение может показаться сделанным грубо, рубленно, сбивчиво. Или вот вам штамп:
Мечтаем о маленьком мире без всяких границ
и вообще исполнены добротой и печалью.
Но вся прелесть – в преодолении штампа, в переигрывании его неожиданными «розоватыми крыльями уток», да ещё и «на самом закате» (высокое косноязычие!), и в резком падении температуры, вот так:
Стоим как на мирном параде
без трепета и без движения:
розоватые крылья уток на самом закате –
отличные такие мишени.
(Так вот чем была эта прелесть в лучах закатного солнца!)
Абсурдность мировосприятия, эдакая мешанина в голове коллективного персонажа («люди», «мы»), выразительно воплощается в стилистическом попурри стихотворения. В нём смешано всё: и наукообразное рассуждение («люди знают, как выглядит выстрел, как результаты выстрела»), и пафос («наслаждаемся видами низколетящих птиц»), и штампы («о мире без всяких границ»), и внезапное чудо («розоватые крылья уток»). И сухая констатация факта, от которой веет адом канцелярита, – в конце.
Я проживаю жизнь, веруя в Чебурашку.
В чебурашку, который бутылка, но и в живого тоже.
Алкоголик, преданный своему делу, — не бог весть какой возвышенный персонаж. Язык ломанный: «...чебурашку, который бутылка...». Но не всё так просто и бытово, как может показаться. «Я проживаю жизнь» — стихотворение начинается с этого откровения, которое настраивает на высокую ноту. А как тянется: «про-жи-ва-ю жизнь», гулко и длинно. Здесь работает не только семантика, но и мелодика (пронизывающие «жи», тревожные и долгие, как дрожь).
И пока эта фраза плывёт наверху, подобно облаку, внизу разворачивается человеческий ад, который страшен своей невыразительной будничностью:
Ну, правда? Жили-пили. Не царило
меж нами никакое сильно зло.
Засим Сергея электричеством убило.
А дальше вон чего произошло.
Так заканчивается второе стихотворение, тихо, фактологически. Но концовку как будто оборвали — а что произошло-то? Об этом сказано в его же начале:
Ты поседел? Ходи седой.
Ты полысел? Ходи как надо.
Ну, вот и вся твоя награда
за долгий подвиг непростой.
Получается фокус такой: стихотворение призывает нас ходить по кругу, как в докучной сказке про попа и собаку. И чем дольше ходишь, тем больше обречённость, потому что не вырваться. Только если сделать шаг в сторону, но – куда? Как?
Беспросветность тянется через всю подборку, и её причина – в повторяемости жизни вокруг, в таком заикании, когда будто собираешься наконец полностью произнести прекрасное длинное слово (например, «ли-ри-чес-кий»), набухающее слогами, как виноградная гроздь, но получается только первый, а дальше — сбиваешься, и приходится начинать сначала.
Только колёсики переменяются на тишину
и водоём за окошком меняется на водоём.
Так и поеду, доколе в смерть не усну.
Кажется, что вся проблема в жизни вокруг, но суть-то, конечно, не в ней:
Ещё издаёшь вполне лучезарное пение.
Но всё равно ты подобен оленю.
И протрезвевши, останешься таковым:
Глупым, живым.
Всё дело в тебе, человек, человечек, маленький и – дурак. Генетически эта поэзия обращена к лианозовской школе. Однако, если там гипербытовая поэтика разворачивается, чтобы продемонстрировать духовную катастрофу и абсурдность послесталинской эпохи (обнажить быт, быт как факт), то Пермяков всё же более лиричен; кажется, что быт только средство, отправная точка, оттолкнувшись от которой, стих обрастает лирикой, чтобы рассказать нам о нашем времени, вечных категориях жизни и смерти и той бессмысленности, с которой человек растрачивает звонкое и живое, что окружает его:
Люди знают, как выглядит выстрел, как результаты выстрела,
но всё равно стреляют. Стреляют довольно точно.
То есть не из любопытства, не ради быстрого
насыщения, а просто результативно и мощно.
Внешне это стихотворение может показаться сделанным грубо, рубленно, сбивчиво. Или вот вам штамп:
Мечтаем о маленьком мире без всяких границ
и вообще исполнены добротой и печалью.
Но вся прелесть – в преодолении штампа, в переигрывании его неожиданными «розоватыми крыльями уток», да ещё и «на самом закате» (высокое косноязычие!), и в резком падении температуры, вот так:
Стоим как на мирном параде
без трепета и без движения:
розоватые крылья уток на самом закате –
отличные такие мишени.
(Так вот чем была эта прелесть в лучах закатного солнца!)
Абсурдность мировосприятия, эдакая мешанина в голове коллективного персонажа («люди», «мы»), выразительно воплощается в стилистическом попурри стихотворения. В нём смешано всё: и наукообразное рассуждение («люди знают, как выглядит выстрел, как результаты выстрела»), и пафос («наслаждаемся видами низколетящих птиц»), и штампы («о мире без всяких границ»), и внезапное чудо («розоватые крылья уток»). И сухая констатация факта, от которой веет адом канцелярита, – в конце.
Если это всё сон
Вообще, жизнь у Пермякова врёт о себе и проговаривается:
Нежность как в слове, которому нету слова:
Единый, ёжики, юг – немножко не те.
Начиная поиски нежности, которая определенно существует, мы хватаемся за то и это, чтобы ее обнаружить, наладить с ней связь через ассоциации, истории – предметно, физически. Но связь оказывается ненайденной, хотя ощущение того, что эта нежность существует, никуда не уходит. Получается мир фантомов, теней, которые реальны только потому, что названы. И в этом сюрреалистичном сне мы бродим, покачиваясь, и подозреваем, что спим, но до конца уверены быть не можем:
Вчера было плохо и холодно, завтра будет плохо и холоднее.
А в эту минуту изволит играть камыш,
Изволит, как царь Давид играл для своей Иудеи.
Играет, играет и вдруг тебе скажет: «Слышь,
К тебе тут ноябрь приходил –
Ледяной вполне крокодил»
Персонажи подменяют друг друга, как будто вырезанные из картона, болтают нелепости, рождается хаос, благодаря отсылке к Библии обретающий бытийный размах. Просторечное «Слышь» звучит уже демонически. Вся игра с бытом, сленгом, подменой реальности (или побегом от нее) – история о борьбе ада и рая. Эту борьбу показывает и язык:
Извини, что приснился наполовину мимо
Похоже на то, как если бы два человека разговаривали одновременно, не слушая и перебивая друг друга, как при вавилонском столпотворении, а кто-то сбивчиво записывал бы за ними.
Действительно, строчка как будто состоит из кирпичиков от разных зданий: как эти слова оказались рядом, какой смысл они несут вместе? Но нечто на уровне звука – просвистывающие мимо «и», как пули – подсказывает ощущение пролетания сквозь. Похожее на касание занавески, взметнувшейся от сквозняка. Прикосновение, вспышка присутствия и – исчезло.
Такие дисгармонические высказывания воплощают еще и дизориентированное мышление автора (отражающее мир, который описывается). Косноязычия Пермякова заговаривают, погружают в абсурд, сон, растерянность («Ветерок бежит по коже,/ жить – как будто спать»), предлагают отбросить рацио ради интуиции. Иногда кажется, что стихи писал иноязычный автор:
Как они вдруг умеют, чтоб свет оказался пластик?
или
В организме сладко-сладко,
точно мандарин.
или
Немножко земноводные движения
Как эти земноводные движения пластичны, как они танцуют, как извиваются звуки. «Ео», «ео», «иеи»... И все это в электричке, среди торговцев, баб, матерной речи.
Этот строй поэтической речи призван раздвинуть границы предметов, пространства, времени, сделать их пластичными: то растягиваться, то сжиматься, подобно детской игрушке-тянучке. Оставь её в покое, и она вернётся в изначальную форму (однако, какова эта форма – тоже вопрос). Но приложи руку – и она может стать всем, что пожелаешь.
Нежность как в слове, которому нету слова:
Единый, ёжики, юг – немножко не те.
Начиная поиски нежности, которая определенно существует, мы хватаемся за то и это, чтобы ее обнаружить, наладить с ней связь через ассоциации, истории – предметно, физически. Но связь оказывается ненайденной, хотя ощущение того, что эта нежность существует, никуда не уходит. Получается мир фантомов, теней, которые реальны только потому, что названы. И в этом сюрреалистичном сне мы бродим, покачиваясь, и подозреваем, что спим, но до конца уверены быть не можем:
Вчера было плохо и холодно, завтра будет плохо и холоднее.
А в эту минуту изволит играть камыш,
Изволит, как царь Давид играл для своей Иудеи.
Играет, играет и вдруг тебе скажет: «Слышь,
К тебе тут ноябрь приходил –
Ледяной вполне крокодил»
Персонажи подменяют друг друга, как будто вырезанные из картона, болтают нелепости, рождается хаос, благодаря отсылке к Библии обретающий бытийный размах. Просторечное «Слышь» звучит уже демонически. Вся игра с бытом, сленгом, подменой реальности (или побегом от нее) – история о борьбе ада и рая. Эту борьбу показывает и язык:
Извини, что приснился наполовину мимо
Похоже на то, как если бы два человека разговаривали одновременно, не слушая и перебивая друг друга, как при вавилонском столпотворении, а кто-то сбивчиво записывал бы за ними.
Действительно, строчка как будто состоит из кирпичиков от разных зданий: как эти слова оказались рядом, какой смысл они несут вместе? Но нечто на уровне звука – просвистывающие мимо «и», как пули – подсказывает ощущение пролетания сквозь. Похожее на касание занавески, взметнувшейся от сквозняка. Прикосновение, вспышка присутствия и – исчезло.
Такие дисгармонические высказывания воплощают еще и дизориентированное мышление автора (отражающее мир, который описывается). Косноязычия Пермякова заговаривают, погружают в абсурд, сон, растерянность («Ветерок бежит по коже,/ жить – как будто спать»), предлагают отбросить рацио ради интуиции. Иногда кажется, что стихи писал иноязычный автор:
Как они вдруг умеют, чтоб свет оказался пластик?
или
В организме сладко-сладко,
точно мандарин.
или
Немножко земноводные движения
Как эти земноводные движения пластичны, как они танцуют, как извиваются звуки. «Ео», «ео», «иеи»... И все это в электричке, среди торговцев, баб, матерной речи.
Этот строй поэтической речи призван раздвинуть границы предметов, пространства, времени, сделать их пластичными: то растягиваться, то сжиматься, подобно детской игрушке-тянучке. Оставь её в покое, и она вернётся в изначальную форму (однако, какова эта форма – тоже вопрос). Но приложи руку – и она может стать всем, что пожелаешь.
Преодолеть пластмассу
Называя себя «я» и говоря «мы», Пермяков оказывается отравленным зеркалом, вынужденным не только отражать, но и собирать в себя лица проходящих мимо людей и самого себя в разные моменты времени. Вот он – чей-то правнук, с тоской представляющий, что у его предков было иначе, чем у него сейчас (и время у них по-другому длилось, и в чудеса они верили), и желающий порвать со своим родовым стыдом:
Надо бы как-то отделаться:
всё равно и не врозь, и не вместе.
А вот он – мужчина, обращающийся к маленькому мальчику, которым когда-то был (не тот ли это стыд тоже, только уже не перед прошлым, а перед чьим-то – своим – будущим?). Учит его премудростями будущей жизни, спрашивает о делах, о погоде – в общем, житейски так интересуется. Как будто между делом, с легкой интонацией. Говорит: в рифму, мол, пока не пиши. Ничего такого. Но спираль раскручивается и переходит на следующий круг:
Думаешь, не умрёшь? А если? А все-таки: если?
А если желаешь подольше, пей вместо привычной квас.
На мгновение выпрыгнув из потока бытовой болтовни, герой тут же ныряет обратно, туда, где комфортно, откуда без всяких преград может говорить тело. Потому ли, что остальное страшно?
Страшно, даже если ты уже умер.
Это и выясняется в конце:
«Последним убежищем рифмы будет застольная песня».
Так написал Егор Теодорович Розен.
Тут он сейчас. У нас.
Иногда героя как будто нет, а есть лишь наблюдатель, который крутит нам кино о тех, кого удалось высмотреть: пьяный дядька, попавший в драку «пятеро на одного», или человек с животом-«бетономешалкой», жующий пирожок в ожидании подружки, или друг Саша, с которым не удавалось встретиться там, где, казалось, встреча очевидна. В этих людях нет ничего особенного, выдающегося – они все части единого героя, который как будто циничен, привязан к земле, и его история крепко обвязана существованием. Вроде кокона, который Пермяков своим сюрреализмом и косноязычием пытается прорвать, чтобы победить безысходность:
Впрочем, твоё-то какое дело?
Ты есть тело и только тело.
Если душа – это розоватые крылья уток на закате, мелодика, побеждающая семантику, языковые и образные изломы речи, то тело – это прямой порядок слов, рациональность мышления и стиха. Тело – это проза, логика обыкновенной жизни, которая окружает героев пластмассовой тюрьмой. И эпоха, в которой они живут, как сказано, – «пластмассовая».
Пусто-пусто, просто-просто
изнутри сердечка.
Чтобы преодолеть пластмассу, нужно ее расплавить, хоть чуть-чуть, с краешку, коротким огоньком зажигалки, опечаткой, оговоркой – надрезом карманного ножичка. И тогда, кроме зданий, вокзалов, заборов, можно увидеть что-то ещё:
Мошка кишит на июньском ветру
в чёрном воздуховороте.
Мол, говорит, дескать, я не умру,
и вы никогда не умрете.
Или кого-то ещё:
Человек вглядывается в одинаковые чужие лица
В поисках одного маленького лица.
Так большая рыжая птица
Ищет маленькую коричневатую птицу
Вечность ли видит тогда герой?
На первый взгляд отрицая её, он всё пишет и пишет о ней, ищет ее в вывихах речи, пляшущих буквах русского языка проходящих мимо железнодорожных станций, в людях, в которых он разыскивает птиц. С надеждой на вечность связано и движение: поезд, электричка, жизнь. Жизнь человека, с которым так и не удалось пересечься, но которая будто снова и снова повторяется, напоминает о себе. Автор как будто спорит со своей памятью, надеется, что кино начнется заново и всё произойдёт по-другому. Так, он будто восстаёт против времени. Тогда промежуток между сбывшимся и грядущим, между вчера и завтра («Вчера было плохо и холодно, завтра будет плохо и холоднее») оказывается единственным небольшим отсеком, где всё возможно. Вроде зазора, что делается на всякий случай, но играет очень важную роль. Может быть, это оттуда доносится непоправимый звук – «в совсем иной высоте», немножко похожий на нежность. Его так сложно бывает услышать отсюда, но он всё так же нам обещает что-то.
Надо бы как-то отделаться:
всё равно и не врозь, и не вместе.
А вот он – мужчина, обращающийся к маленькому мальчику, которым когда-то был (не тот ли это стыд тоже, только уже не перед прошлым, а перед чьим-то – своим – будущим?). Учит его премудростями будущей жизни, спрашивает о делах, о погоде – в общем, житейски так интересуется. Как будто между делом, с легкой интонацией. Говорит: в рифму, мол, пока не пиши. Ничего такого. Но спираль раскручивается и переходит на следующий круг:
Думаешь, не умрёшь? А если? А все-таки: если?
А если желаешь подольше, пей вместо привычной квас.
На мгновение выпрыгнув из потока бытовой болтовни, герой тут же ныряет обратно, туда, где комфортно, откуда без всяких преград может говорить тело. Потому ли, что остальное страшно?
Страшно, даже если ты уже умер.
Это и выясняется в конце:
«Последним убежищем рифмы будет застольная песня».
Так написал Егор Теодорович Розен.
Тут он сейчас. У нас.
Иногда героя как будто нет, а есть лишь наблюдатель, который крутит нам кино о тех, кого удалось высмотреть: пьяный дядька, попавший в драку «пятеро на одного», или человек с животом-«бетономешалкой», жующий пирожок в ожидании подружки, или друг Саша, с которым не удавалось встретиться там, где, казалось, встреча очевидна. В этих людях нет ничего особенного, выдающегося – они все части единого героя, который как будто циничен, привязан к земле, и его история крепко обвязана существованием. Вроде кокона, который Пермяков своим сюрреализмом и косноязычием пытается прорвать, чтобы победить безысходность:
Впрочем, твоё-то какое дело?
Ты есть тело и только тело.
Если душа – это розоватые крылья уток на закате, мелодика, побеждающая семантику, языковые и образные изломы речи, то тело – это прямой порядок слов, рациональность мышления и стиха. Тело – это проза, логика обыкновенной жизни, которая окружает героев пластмассовой тюрьмой. И эпоха, в которой они живут, как сказано, – «пластмассовая».
Пусто-пусто, просто-просто
изнутри сердечка.
Чтобы преодолеть пластмассу, нужно ее расплавить, хоть чуть-чуть, с краешку, коротким огоньком зажигалки, опечаткой, оговоркой – надрезом карманного ножичка. И тогда, кроме зданий, вокзалов, заборов, можно увидеть что-то ещё:
Мошка кишит на июньском ветру
в чёрном воздуховороте.
Мол, говорит, дескать, я не умру,
и вы никогда не умрете.
Или кого-то ещё:
Человек вглядывается в одинаковые чужие лица
В поисках одного маленького лица.
Так большая рыжая птица
Ищет маленькую коричневатую птицу
Вечность ли видит тогда герой?
На первый взгляд отрицая её, он всё пишет и пишет о ней, ищет ее в вывихах речи, пляшущих буквах русского языка проходящих мимо железнодорожных станций, в людях, в которых он разыскивает птиц. С надеждой на вечность связано и движение: поезд, электричка, жизнь. Жизнь человека, с которым так и не удалось пересечься, но которая будто снова и снова повторяется, напоминает о себе. Автор как будто спорит со своей памятью, надеется, что кино начнется заново и всё произойдёт по-другому. Так, он будто восстаёт против времени. Тогда промежуток между сбывшимся и грядущим, между вчера и завтра («Вчера было плохо и холодно, завтра будет плохо и холоднее») оказывается единственным небольшим отсеком, где всё возможно. Вроде зазора, что делается на всякий случай, но играет очень важную роль. Может быть, это оттуда доносится непоправимый звук – «в совсем иной высоте», немножко похожий на нежность. Его так сложно бывает услышать отсюда, но он всё так же нам обещает что-то.



