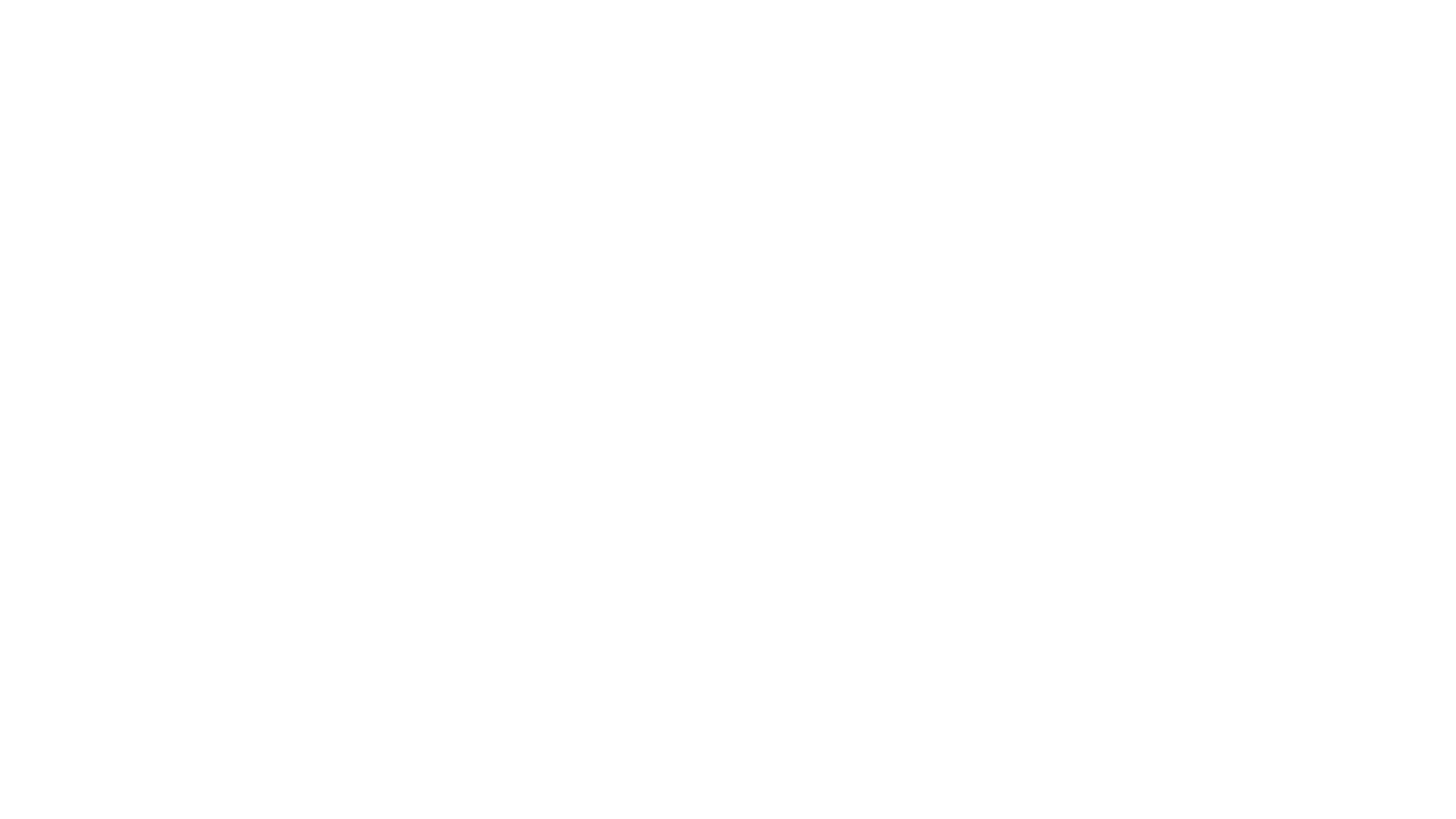
Мария Затонская ─ Поэзия плоть эфир
памяти поэта Владимира Строчкова
Мария Затонская– поэт, главный редактор литературного журнала «Пролиткульт». Победитель Национальной премии «Русские рифмы», 2019, победитель Международной литературной премии им. И. Анненского, 2021. Автор трех книг стихов. Живет и работает в Сарове.
Умер Владимир Строчков. А я-то думала, что тот, кто соприкоснулся с чем-то, столь близким к Богу — с поэзией то есть — сам превратился уже в бессмертное. И тут, говорят, — умер. Как это уместить в голове? Вот его стихи, вот его письмо, полученное в июле. Вот декабрь, и его уже нет. А впрочем, может, он и не умер, а так — показалось только.
В стихах Строчкова нельзя выделить сильные моменты, фразы, строчки — стихотворения в его случае неделимы, до той степени, что строчка или выражение теряет всё вне целого. А вернувшись назад, снова светится и переливается как неотъемлемая часть высшего замысла.
потому что я из дому вышел — был сильный мороз,
и от холода общую мысль я опять не донёс.
Ничего в этом нет примечательного (кстати, и подборка Строчкова в «Пролиткульте» называется «Без особых примет»). Но стоит приложить эти строчки обратно, к стихотворению «Выхожу раскурить сигарету на самом ветру», в самую концовку — и слова обретают — нет, не тоску и печаль от недонесения мысли (как может показаться) — а восторг перед загадкой бытия. И этого чувства ни за что не получится, если не прочитать всё стихотворение от начала до конца:
***
Выхожу раскурить сигарету на самом ветру,
раскрутить эту мысль, что я тоже не весь умру,
но и выживу тоже какая-то часть, но не весь.
Развернуть эту мысль, но не всю, а какую-то часть,
раскрутить и подбросить холодным светилам небес,
затянувшись и глядя, как ветер закрутит искру
и как мысль, затянувшись, свернет на другую игру,
что не весь я, наверное, тоже умру не сейчас,
потому что я из дому вышел под ветхий завес
затянувшись на мысли и частью до ветра влачась.
Но и выжав из этого большую часть, но не все,
а потрясшую мысль, что последняя капля всегда,
переполнивши чашу и спину верблюда сломав,
вытекает потом, но не вся… Как бишь там у Басё? -
что на сильном ветру с ветки сакуры капнет звезда
и стечет с кимоно, и слезою омочит рукав.
Докурив и потрясшую часть спрятав в общую мысль,
весь живой, я вернусь из-под ветра в жилое тепло,
скину гета и оби сырой сменю, и взирая на мыс
из оконца, пойму наконец-то, что там стекло,
потому что я из дому вышел — был сильный мороз,
и от холода общую мысль я опять не донес.
Строчкова не разберешь на афоризмы, на фразы, которые можно припомнить за круглым столом стихотворцев, задумчиво вознеся глаза ввысь. Его стихи — стихи-монолиты. В стихотворении выше единство получается благодаря инерции, языковой и семантической. Она превращает текст в мелодию, из которой, как из песни, «слова не выкинешь»: каждый последующий аккорд неотъемлемо связан с предыдущим. Мелодия, музыка — это вообще о Строчкове. Кажется, она в такой поэтике первична (и именно её нужно суметь выловить за словами, счистить их, как кожуру). Музыкальные фразы то оттеняют, то подсвечивают друг друга, соединяясь. Даже при внешней дробности, разрозненности:
и всем кранты, как в фильмах Тарантино,
и тарахтит бесчувственный возок
зондеркоманды. Осень. Смерть. Рутина.
Пожалте бриться. Мыло. Помазок…
Сленг, диалектизмы, отсылка на актуальные явления современности — рядом с экзистенциальным «бесчувственным возком» и Смертью (с большой буквы). Казалось бы, какой уж тут монолит?
Монолитность именно в том, что перечисляемое бессмысленно вне целого, это только фрагменты. Они почти ни о чем нам не говорят, в то время как стихотворение — подобно мелодии — выстраивает внутри читающего «образ мира, в слове явленный». Только не в одном слове:
***
Уже рисует осень на глазок
болезненно подробные картины.
То тут добавит штрих, то там мазок —
сангины, сепии, ангины, скарлатины.
Еще на дне пластмассовой кантины
вина глотнуть осталось на разок,
но нет, — сочится в смотровой глазок
лизол, карболка, запах карантина,
и всем кранты, как в фильмах Тарантино,
и тарахтит бесчувственный возок
зондеркоманды. Осень. Смерть. Рутина.
Пожалте бриться. Мыло. Помазок…
«Подумать только, как у них растет щетина!»
Сангина, сепия, анамнез, образок.
В корпусе Строчкова не выйдет выделить тему, или мотив, или какой-нибудь центральный образ. Его не предсказать, не уложить в таблицу, он свободный и неуловимый, как воздух. Хотя, если всё упростить до «жизнь-смерть-любовь», то, конечно, эти стихи об этом. Как и все другие хорошие стихи.
Строчков кажется мне безбожником, самонадеянно нарушающим заветы:
видно, его безумие вроде спида
и не лечится. Хронического суицида
стрептоцидом не вылечишь…
Опять-таки нагромождение, да ещё какой канцелярит: спид, суицид, стрептоцид. Но Строчкову отчего-то всё можно, он всё делает легко и играючи, и тем легче, чем тяжелее тема:
***
Отбывающий пожизненную повинность
здешних мест обыватель и временный обитатель,
отбывать собираясь в иную обитель,
я пока еще только умом подвинусь
в эту сторону, сразу же скажут: спятил
старый дятел, откукареканый петел!
сколько раз вынимали его из кроличьих петель
разных теплых вязаных кофт и кружев,
и чулок, и заячьих хитрых скидок
на насильные вещи силком наружу,
он же вновь норовит внутрь, старый пидор!
видно, его безумие вроде спида
и не лечится. Хронического суицида
стрептоцидом не вылечишь…
Отъезжающий местный житель,
прибираясь щепотью, спрашивает:
— Куды теперя? -
И доносит из-за приоткрытой двери:
«…ждите ответа, ждите ответа, ждите…»
И снова в банку стихотворения ссыпали и соль, и сахар, и философию, и сленг. И оказывается, что всё неотделимо друг от друга: и Бог, и дьявол; все элементы друг к другу притягиваются центростремительно, и выходит тютчевское «всё во всём», только ландшафт не природный, а городской, даже андеграундный, выпукло современный.
Как классифицировать эти стихи, отнести их к какому-то направлению? И нужно ли?
Обозначить точку, из которой стихотворения Строчкова свершаются? Все они разные между собой и даже внутри самих себя. Тут ужас соседствует с шутками-прибаутками, нежность с матом и канцеляритом, в общем, схему в этом не отыщешь. Так что можно сказать, что Строчков — антимонотонный.
Потому он, наверное, и не стал широко популярным: в нём нет той толики ожидаемости, которую любит читатель — по Лотману, в хороших стихах есть элемент ожидаемого плюс элемент неожиданного, в некоторых очень верных пропорциях. Если всё не-ожидаемо, текст невозможно (или, по крайней мере, сложно) идентифицировать как предмет искусства.
Герой Строчкова тоже непредсказуем: то ли молод, то ли стар, то ли мягок, то ли груб — всё сразу и одновременно. И жизнь у него — ни иллюзия, ни плоть. Ни эфир, ни предмет. Беспощадная множественность взамен дуальности, которая ставит в тупик теоретика и интерпретатора. Ни с одной, ни с другой, ни с третьей стороны убавить не получается, лодка раскачивается, но не падает ни в одну сторону. Висит в воздухе в центре всего, и в неё врезаются лучи и звуки, без разбора идущие отовсюду.
В стихах Строчкова нельзя выделить сильные моменты, фразы, строчки — стихотворения в его случае неделимы, до той степени, что строчка или выражение теряет всё вне целого. А вернувшись назад, снова светится и переливается как неотъемлемая часть высшего замысла.
потому что я из дому вышел — был сильный мороз,
и от холода общую мысль я опять не донёс.
Ничего в этом нет примечательного (кстати, и подборка Строчкова в «Пролиткульте» называется «Без особых примет»). Но стоит приложить эти строчки обратно, к стихотворению «Выхожу раскурить сигарету на самом ветру», в самую концовку — и слова обретают — нет, не тоску и печаль от недонесения мысли (как может показаться) — а восторг перед загадкой бытия. И этого чувства ни за что не получится, если не прочитать всё стихотворение от начала до конца:
***
Выхожу раскурить сигарету на самом ветру,
раскрутить эту мысль, что я тоже не весь умру,
но и выживу тоже какая-то часть, но не весь.
Развернуть эту мысль, но не всю, а какую-то часть,
раскрутить и подбросить холодным светилам небес,
затянувшись и глядя, как ветер закрутит искру
и как мысль, затянувшись, свернет на другую игру,
что не весь я, наверное, тоже умру не сейчас,
потому что я из дому вышел под ветхий завес
затянувшись на мысли и частью до ветра влачась.
Но и выжав из этого большую часть, но не все,
а потрясшую мысль, что последняя капля всегда,
переполнивши чашу и спину верблюда сломав,
вытекает потом, но не вся… Как бишь там у Басё? -
что на сильном ветру с ветки сакуры капнет звезда
и стечет с кимоно, и слезою омочит рукав.
Докурив и потрясшую часть спрятав в общую мысль,
весь живой, я вернусь из-под ветра в жилое тепло,
скину гета и оби сырой сменю, и взирая на мыс
из оконца, пойму наконец-то, что там стекло,
потому что я из дому вышел — был сильный мороз,
и от холода общую мысль я опять не донес.
Строчкова не разберешь на афоризмы, на фразы, которые можно припомнить за круглым столом стихотворцев, задумчиво вознеся глаза ввысь. Его стихи — стихи-монолиты. В стихотворении выше единство получается благодаря инерции, языковой и семантической. Она превращает текст в мелодию, из которой, как из песни, «слова не выкинешь»: каждый последующий аккорд неотъемлемо связан с предыдущим. Мелодия, музыка — это вообще о Строчкове. Кажется, она в такой поэтике первична (и именно её нужно суметь выловить за словами, счистить их, как кожуру). Музыкальные фразы то оттеняют, то подсвечивают друг друга, соединяясь. Даже при внешней дробности, разрозненности:
и всем кранты, как в фильмах Тарантино,
и тарахтит бесчувственный возок
зондеркоманды. Осень. Смерть. Рутина.
Пожалте бриться. Мыло. Помазок…
Сленг, диалектизмы, отсылка на актуальные явления современности — рядом с экзистенциальным «бесчувственным возком» и Смертью (с большой буквы). Казалось бы, какой уж тут монолит?
Монолитность именно в том, что перечисляемое бессмысленно вне целого, это только фрагменты. Они почти ни о чем нам не говорят, в то время как стихотворение — подобно мелодии — выстраивает внутри читающего «образ мира, в слове явленный». Только не в одном слове:
***
Уже рисует осень на глазок
болезненно подробные картины.
То тут добавит штрих, то там мазок —
сангины, сепии, ангины, скарлатины.
Еще на дне пластмассовой кантины
вина глотнуть осталось на разок,
но нет, — сочится в смотровой глазок
лизол, карболка, запах карантина,
и всем кранты, как в фильмах Тарантино,
и тарахтит бесчувственный возок
зондеркоманды. Осень. Смерть. Рутина.
Пожалте бриться. Мыло. Помазок…
«Подумать только, как у них растет щетина!»
Сангина, сепия, анамнез, образок.
В корпусе Строчкова не выйдет выделить тему, или мотив, или какой-нибудь центральный образ. Его не предсказать, не уложить в таблицу, он свободный и неуловимый, как воздух. Хотя, если всё упростить до «жизнь-смерть-любовь», то, конечно, эти стихи об этом. Как и все другие хорошие стихи.
Строчков кажется мне безбожником, самонадеянно нарушающим заветы:
видно, его безумие вроде спида
и не лечится. Хронического суицида
стрептоцидом не вылечишь…
Опять-таки нагромождение, да ещё какой канцелярит: спид, суицид, стрептоцид. Но Строчкову отчего-то всё можно, он всё делает легко и играючи, и тем легче, чем тяжелее тема:
***
Отбывающий пожизненную повинность
здешних мест обыватель и временный обитатель,
отбывать собираясь в иную обитель,
я пока еще только умом подвинусь
в эту сторону, сразу же скажут: спятил
старый дятел, откукареканый петел!
сколько раз вынимали его из кроличьих петель
разных теплых вязаных кофт и кружев,
и чулок, и заячьих хитрых скидок
на насильные вещи силком наружу,
он же вновь норовит внутрь, старый пидор!
видно, его безумие вроде спида
и не лечится. Хронического суицида
стрептоцидом не вылечишь…
Отъезжающий местный житель,
прибираясь щепотью, спрашивает:
— Куды теперя? -
И доносит из-за приоткрытой двери:
«…ждите ответа, ждите ответа, ждите…»
И снова в банку стихотворения ссыпали и соль, и сахар, и философию, и сленг. И оказывается, что всё неотделимо друг от друга: и Бог, и дьявол; все элементы друг к другу притягиваются центростремительно, и выходит тютчевское «всё во всём», только ландшафт не природный, а городской, даже андеграундный, выпукло современный.
Как классифицировать эти стихи, отнести их к какому-то направлению? И нужно ли?
Обозначить точку, из которой стихотворения Строчкова свершаются? Все они разные между собой и даже внутри самих себя. Тут ужас соседствует с шутками-прибаутками, нежность с матом и канцеляритом, в общем, схему в этом не отыщешь. Так что можно сказать, что Строчков — антимонотонный.
Потому он, наверное, и не стал широко популярным: в нём нет той толики ожидаемости, которую любит читатель — по Лотману, в хороших стихах есть элемент ожидаемого плюс элемент неожиданного, в некоторых очень верных пропорциях. Если всё не-ожидаемо, текст невозможно (или, по крайней мере, сложно) идентифицировать как предмет искусства.
Герой Строчкова тоже непредсказуем: то ли молод, то ли стар, то ли мягок, то ли груб — всё сразу и одновременно. И жизнь у него — ни иллюзия, ни плоть. Ни эфир, ни предмет. Беспощадная множественность взамен дуальности, которая ставит в тупик теоретика и интерпретатора. Ни с одной, ни с другой, ни с третьей стороны убавить не получается, лодка раскачивается, но не падает ни в одну сторону. Висит в воздухе в центре всего, и в неё врезаются лучи и звуки, без разбора идущие отовсюду.



