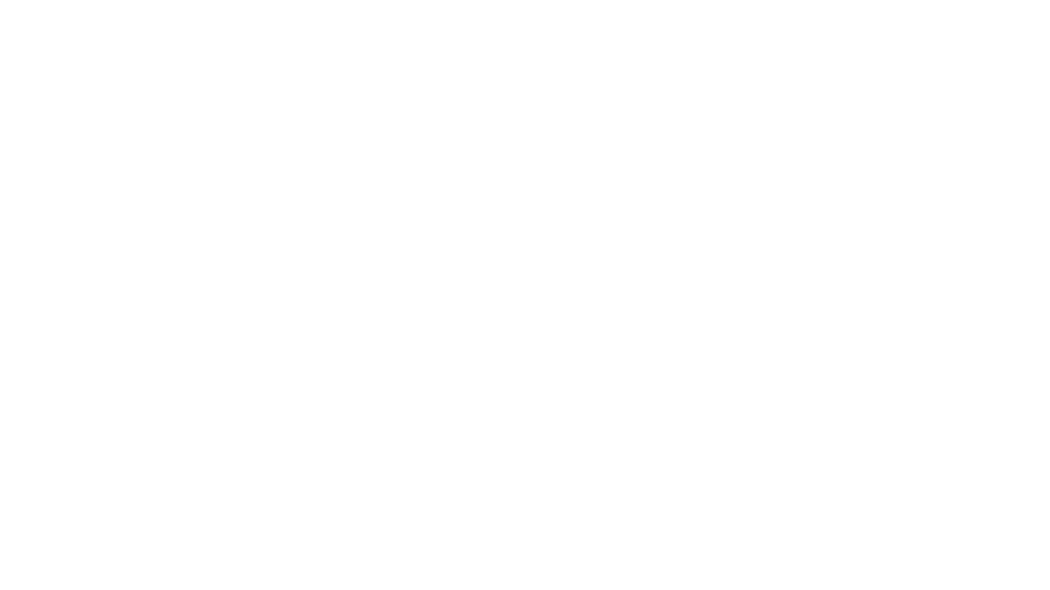
Мария Затонская — Невозможность имени / Трудности перевода
Мария Затонская. Поэт, член Союза писателей России. Главный редактор литературного журнала «Пролиткульт». Победитель Национальной премии «Русские рифмы», 2019, победитель Международной литературной премии им.Анненского, 2021. Стипендиат XX и XXII Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Публиковалась в журналах «Арион», «Знамя», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Наш современник», «Зинзивер», «Звезда», «Новая юность», «Урал», «Дружба народов» и др. Автор книг стихов: «Дом с птицами» (М., «Эксмо», 2020), «Миниатюры» (М., «СТиХИ», 2021). Живёт и работает в Сарове.
I’ve tried the new moon tilted in the air
Above a hazy tree-and-farmhouse cluster
As you might try jewel in your hair.
Robert Frost
Мне вспоминается, как на занятиях по английскому учительница требовала говорить in English, ни слова по-русски было нельзя. «Что ты делала в выходные?» — спрашивает она с образцовым британским акцентом. Я начинаю свой рассказ увлечённо и бодро, но вот оно — слово, простенькое словцо, которое я забыла. Это мог быть какой-нибудь ковёр или чайник — что-то известное, но теперь отчего-то вылетевшее из головы. И вместо этого слова — дыра в голове и ком в горле. Без него невозможно продолжить рассказ, а назвать как положено — in English — не получается.
Учительница набирается терпения и предлагает (также по-английски, безусловно): опиши иначе, другими словами. И я, собрав все свои языковые возможности, начинаю описывать чайник, не называя его: увесистая посудина с носиком, который ставят на плиту, чтобы согреть в нём воду, а потом разлить её по чашкам и пить чай... Иного пути донести свою мысль нет. Ведь здесь, в этой комнате, в этом пространстве между ней и мной — русского языка не существует. Есть только английский язык и мой худой словарь, в который ещё не записаны (по крайней мере в той степени, чтобы можно было оттуда достать) какие-то особо важные понятия…
Такой подбор слов для описания явления очень похож на то, как поэт пишет стихотворение. Так, как будто источник стихотворения — ещё не придуманное или попросту забытое слово. Слово (одно, то самое) может быть не придумано никогда, и стихотворение единственный способ худо-бедно некоторое явление описать. Попытка перевода.
Борис Хлебников переводит:
Я месяц примеряю к небесам
Над крышею и серебристым вязом,
Как ты, наверно, к тёмным волосам
Заколку примеряла бы с алмазом
К Фросту прибавилась русская элегическая просодия, воздух сменился небесами, туманный куст стал вязом, появилась крыша — в общем, добавлена непосредственно высота (там ведь обычно и крепится месяц). Мысль, данная у Фроста в трёх строчках, занимает теперь четыре — на одну больше уделяется внешности девушки (здесь у неё не просто волосы, а «тёмные волосы», и не абстрактное украшение — а «заколка с алмазом»). Впрочем, это добротный перевод, хоть и вполне вольный (художественный всё-таки): что-то трансформируется, теряется, прибавляется.
Но подстрочник тоже был бы не уместен: потерялась бы музыка, смысловые и интонационные оттенки, которые рождаются при соседстве (и столкновении) слов. Так что при переходе из одного языка в другой искажений не избежать. Дай бог останется хоть что-то от оригинального стихотворения...
Вот это оригинальное стихотворение очень похоже на иностранное словцо, которое забыл. Явление-то есть (всё тот же чайник), выразить его необходимо. Но выходит, что нужно столько-то слов и строк, в определённом порядке. А иначе никак.
Как Толстой в ответ на вопрос, о чём его «Анна Каренина», сказал, что ему пришлось бы написать роман заново, чтобы объяснить. Поэтому важно воспринимать стихотворение как целое, от начала и до конца, в неотделимости формы и содержания.
Для Роберта Фроста описание примерки месяца к воздуху и заколки к волосам возлюбленной важно не само по себе, а в совокупности — это единственно возможный способ описать состояние. Но какое? Понадобится много слов и ни одно не будет исчерпывающим (а какие-то будут и противоречить друг другу, хоть и будут описывать одно состояние): трепет, нежность, восторг, грусть, тревогу, жадность (та, которая страсть охватить неохватное). Простое перечисление этих настроений не создаёт ничего определённого, но стихотворение само создаёт каждое из них. И, объединяя их, воплощает другое, неподдельное, состояние.
Так от броска камушка расходятся круги на воде:
Сумерки водянистые
сгущаются на ходу.
Словно бы сребролистные
ели в снежном саду.
Встрепенёшься, разбужена
тайным пеньем из тьмы.
Всё это незаслуженно —
в долг этот сад, взаймы…
(Олеся Николаева, Новый мир, № 3, 2023)
В сущности, и этот отрывок является словом. Здесь нечленимость, невозможность расщепления, сокращения, пересказа — любого действия извне без ущерба для цельности картинки и смысла. Хотя — попробуем (убьём его):
Вечер, зима, лес (еловый). Героиня просыпается от звуков и решает, что не заслужила взятый в долг сад (который лес).
Выходит, конечно же, несусветная чушь, нисколько не напоминающая пересказанные стихи. Всё же целое — это не совокупность частей, тут добавляется новое, ранее не существовавшее качество.
А что важно? Например, что ели в саду сгущаются, хотя и стоят, а сумерки сгущаются на ходу. Здесь не только борьба света и тьмы (снега и сумерек), но и столкновение конечного, временного («река времён в своём стремленьи…») с вечным, незыблемым (тут оно существует в виде «снежного сада»).
Этот отрывок — слово, сорвавшееся в неловкий момент. Неудобное, неуместное. Всё вроде бы в порядке, но откуда эта тревога, чтó там наступает из глубины сумерек? И отчего всё вокруг сгущается: и сад, и лес — где бы ни был, что бы ни было вокруг. Наверное, все испытывали нечто схожее.
Стихи нужно не понять, а вспомнить. Не прочитать — прожить: и тайное пение из тьмы (именно тайное, именно из тьмы), и чувство, что всё происходящее (а особенно, счастье!) незаслуженно.
***
Если две строфы уже слово, то чем оказывается всё стихотворение (в нём восемь строф)? — Другим словом. К существующему добавляется уже и «скрипочка со смычком», давая новый характер звучания «тайному пенью», и «ларчик резной с талантами» (и он взаймы!), и настроение сменяется — становится воодушевлённым, торжественным даже, давая совершенно другую эмоциональную коннотацию этому «взаймы» — уже не трагедия, а радость жизни:
И не за так — слетаются
ангелы петь псалмы —
небо с землёй страстаются
под прикрытьем зимы.
Что отдам за победное
Таинство, Элогим? —
Это ль пальтишко бедное
с сердцем моим под ним?..
Сначала мы смотрим на мир, огромные пространства, в которых срастаются небо с землёй, потом на человека, дальше — на его сердце — происходит резкое сужение фокуса. Это сопряжено с драмой: что есть у меня, что я могу предложить взамен всех этих даров и чудес, и ангелов, которые для меня поют псалмы? И это не то же чувство и не тот же самый вопрос, который вставал вначале.
Стихотворение развилось и оставило мне (мне!) единственное состояние (объединяющее столь многие). И к нему не подберёшь прилагательные-существительные-синонимы, да и смысла никакого нет в этом пустом подборе...
А вот Михаил Кукин (Новый мир, № 12, 2022):
В роскошь раннего лета войду я,
в сирень и пионы, шиповник и (помнишь?)
характерный вечерний
звук ноже и вилок, дымок шашлычный.
Над участком он вьётся, плывёт и,
наши яблони старые обнимая,
до шоссе доплывает и дальше, туда, где
никого не осталось.
Какое слово подбирает, вспоминает здесь Кукин? Обречённость? Одиночество? Вечность?
Вот они — эти несчастные оболочки, жаждущие наполниться. Без стихотворения они пусты, звенят, как бутылки, в самом центре публичного сквозняка — на красивом месте за барной стойкой.
Иногда слова это только буквы, расставленные в заранее установленном порядке. У слов этих есть словарное значение, но за ними ничего не стоит. Мы читаем их, но ничего не чувствуем. А иногда есть явление, состояние, чувство, всеобъемлющее, катастрофически важное, но слова для него нет. Тогда им становится стихотворение.



