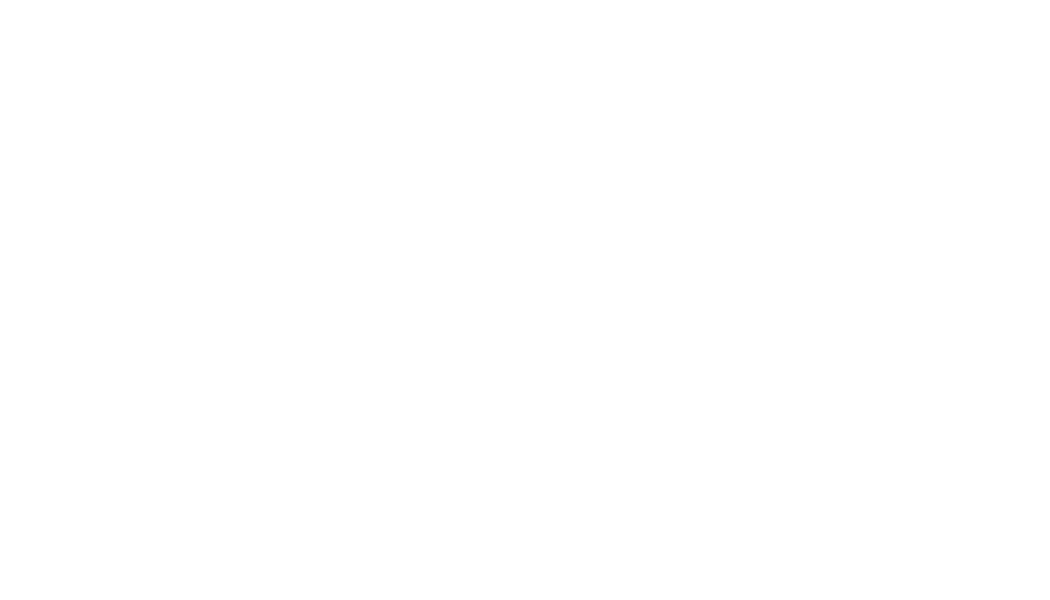
Цель поэзии: о чем, зачем и как
Мария Затонская – поэт, главный редактор журнала.
В издательстве «Время» вышла долгожданная книга – «Цель поэзии» – сборник статей, рецензий, заметок, выступлений Алексея Алёхина. Материалы, разбросанные в толстых журналах разных лет, теперь собраны под одной обложкой.
Вот что пишет о названии гендиректор «Времени» Борис Натанович Пастернак:
«Алексей Алехин написал книгу «Цель поэзии», название которой Пушкин тоже не сам придумал, а позаимствовал у Дельвига. Заподозрив при этом Дельвига, что и тот название украл.
Вся эта криминальная история умещается в один эпиграф, который автор книги «Цель поэзии» Алексей Алехин поместил на первой ее странице:
Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого).
Пушкин. Из письма к Жуковскому, 1825 г.»
Теперь, чтобы цитировать Алексея Давидовича при всяком удобном случае, можно просто открыть книгу. А это я делаю частенько: он ёмко и точно высказался и о поэтическом замысле, и о роле поэта, и о литературной критике, да о чём только не – и всегда верно и окончательно.
А вот и аннотация: «Поэт и критик Алексей Алёхин — основатель и бессменный главный редактор первого и долгое время единственного в России журнала поэзии «Арион» (1994–2019), подвижник современной поэзии, во всей полноте знающий и чувствующий ее движение и современное состояние. Статьи, эссе, рецензии, собранные в книге, охватывают почти три десятилетия, с середины 90-х годов по нынешний день. Они представляют суждения человека, не просто внимательно наблюдающего поэтический процесс, но включенного в него и собственной литературной деятельностью, и многолетней работой с молодыми поэтами в мастер-классах и семинарах. Собранные здесь статьи не только взгляд на современную русскую поэзию, но и, в немалой мере, ответы на вопросы, часто возникающие у молодых писателей».
Это книга для влюблённых. Влюблённые готовы часами вглядываться в предмет своего обожания, и предмет этот здесь – поэзия. Между прочим, одно из самых ускользающих понятий. Что такое поэзия? Стихи? Не только. Красота? Не только. Любовь? Пожалуй. Но тоже довольно общо. Назвать вряд ли получится, а вот если говорить о ней, то можно нащупать. Почувствовать. Главное, ещё и отсечь то, что поэзией не является.
« ...что бы со стихотворением ни случалось, попасть в него может только то, что оказалось в авторе. Авторы — разные. Великие стихи отличаются от просто хороших тем, какой огромный ком бытия они втаскивают в свои — даже как бы ни о чем, даже как бы дырявые — строки».
«Вымысел — как и умысел — с лирической поэзией плохо уживается. Вопреки расхожему мнению о вольности «поэтического воображения», это проза позволяет авторской мысли отлетать куда угодно: сочинять, моделировать жизненные ситуации, примысливать себя то князем Мышкиным, то Соней Мармеладовой, то госпожой Бовари. Поэзия же прикована к реальному «я» поэта, как каторжник к ядру. Придуманное визжит в ней — или сюсюкает — фальшью». (Алексей Алёхин, «Куда ж нам плыть?», «Арион», 1, 2014)
Это одна из моих любимых статей Алёхина. И, как и бывает с вопросами фундаментальными, актуальности она с течением лет не потеряла. Как и некоторые проблемы, которые с годами, пожалуй, даже обострились – в частности, проблема дилетантизма в литературе:
«К чему тащить себя за волосы вверх, если иерархии ценностей больше нет, признанных ценителей тоже нет, и «хорошие» стихи отличаются от посредственных и плохих не мнением авторитетного знатока или знатоков, не местом публикации, не тиражом самопального сборничка, а всего лишь числом лайков специально для этой цели собранных в кучку и повязанных круговой порукой доброжелателей?
<…> Словом, победила демократия. Сиречь — воинствующий дилетантизм». (Алексей Алёхин, «Отчего рыбы разучились летать», Арион, 3, 2018)
Арион появился тогда, когда журналов поэзии не было. Он был «дневником событий отечественной поэзии», в котором печатались нынешние мэтры, тогда бывшие едва ли не «андеграундом». Алёхин был и хранителем, и литературной инспекцией – чтобы осознать путь поэзии и куда оно всё движется. В 101-м, заключительном, номере в 25-летней истории «Ариона» он пишет:
«Литературный журнал — живой организм. И потому не бессмертен. Зато долгоиграющими остаются результаты его творческой жизни. Мы не изменили поэзию, но, мнится нам, помогли ей быть и меняться».
Сборник «Цель поэзии», думается, играет ту же роль: «помогать поэзии быть и меняться», отделяя зёрна от плевел, «не отступаясь от лица», сберегая ту самую любовь, которая в центре неё находится и которая только и делает из ничего всё.
Вот что пишет о названии гендиректор «Времени» Борис Натанович Пастернак:
«Алексей Алехин написал книгу «Цель поэзии», название которой Пушкин тоже не сам придумал, а позаимствовал у Дельвига. Заподозрив при этом Дельвига, что и тот название украл.
Вся эта криминальная история умещается в один эпиграф, который автор книги «Цель поэзии» Алексей Алехин поместил на первой ее странице:
Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого).
Пушкин. Из письма к Жуковскому, 1825 г.»
Теперь, чтобы цитировать Алексея Давидовича при всяком удобном случае, можно просто открыть книгу. А это я делаю частенько: он ёмко и точно высказался и о поэтическом замысле, и о роле поэта, и о литературной критике, да о чём только не – и всегда верно и окончательно.
А вот и аннотация: «Поэт и критик Алексей Алёхин — основатель и бессменный главный редактор первого и долгое время единственного в России журнала поэзии «Арион» (1994–2019), подвижник современной поэзии, во всей полноте знающий и чувствующий ее движение и современное состояние. Статьи, эссе, рецензии, собранные в книге, охватывают почти три десятилетия, с середины 90-х годов по нынешний день. Они представляют суждения человека, не просто внимательно наблюдающего поэтический процесс, но включенного в него и собственной литературной деятельностью, и многолетней работой с молодыми поэтами в мастер-классах и семинарах. Собранные здесь статьи не только взгляд на современную русскую поэзию, но и, в немалой мере, ответы на вопросы, часто возникающие у молодых писателей».
Это книга для влюблённых. Влюблённые готовы часами вглядываться в предмет своего обожания, и предмет этот здесь – поэзия. Между прочим, одно из самых ускользающих понятий. Что такое поэзия? Стихи? Не только. Красота? Не только. Любовь? Пожалуй. Но тоже довольно общо. Назвать вряд ли получится, а вот если говорить о ней, то можно нащупать. Почувствовать. Главное, ещё и отсечь то, что поэзией не является.
« ...что бы со стихотворением ни случалось, попасть в него может только то, что оказалось в авторе. Авторы — разные. Великие стихи отличаются от просто хороших тем, какой огромный ком бытия они втаскивают в свои — даже как бы ни о чем, даже как бы дырявые — строки».
«Вымысел — как и умысел — с лирической поэзией плохо уживается. Вопреки расхожему мнению о вольности «поэтического воображения», это проза позволяет авторской мысли отлетать куда угодно: сочинять, моделировать жизненные ситуации, примысливать себя то князем Мышкиным, то Соней Мармеладовой, то госпожой Бовари. Поэзия же прикована к реальному «я» поэта, как каторжник к ядру. Придуманное визжит в ней — или сюсюкает — фальшью». (Алексей Алёхин, «Куда ж нам плыть?», «Арион», 1, 2014)
Это одна из моих любимых статей Алёхина. И, как и бывает с вопросами фундаментальными, актуальности она с течением лет не потеряла. Как и некоторые проблемы, которые с годами, пожалуй, даже обострились – в частности, проблема дилетантизма в литературе:
«К чему тащить себя за волосы вверх, если иерархии ценностей больше нет, признанных ценителей тоже нет, и «хорошие» стихи отличаются от посредственных и плохих не мнением авторитетного знатока или знатоков, не местом публикации, не тиражом самопального сборничка, а всего лишь числом лайков специально для этой цели собранных в кучку и повязанных круговой порукой доброжелателей?
<…> Словом, победила демократия. Сиречь — воинствующий дилетантизм». (Алексей Алёхин, «Отчего рыбы разучились летать», Арион, 3, 2018)
Арион появился тогда, когда журналов поэзии не было. Он был «дневником событий отечественной поэзии», в котором печатались нынешние мэтры, тогда бывшие едва ли не «андеграундом». Алёхин был и хранителем, и литературной инспекцией – чтобы осознать путь поэзии и куда оно всё движется. В 101-м, заключительном, номере в 25-летней истории «Ариона» он пишет:
«Литературный журнал — живой организм. И потому не бессмертен. Зато долгоиграющими остаются результаты его творческой жизни. Мы не изменили поэзию, но, мнится нам, помогли ей быть и меняться».
Сборник «Цель поэзии», думается, играет ту же роль: «помогать поэзии быть и меняться», отделяя зёрна от плевел, «не отступаясь от лица», сберегая ту самую любовь, которая в центре неё находится и которая только и делает из ничего всё.
Заказать книгу можно здесь: https://www.wildberries.ru/catalog/307257426/detail.aspx?targetUrl=SN



