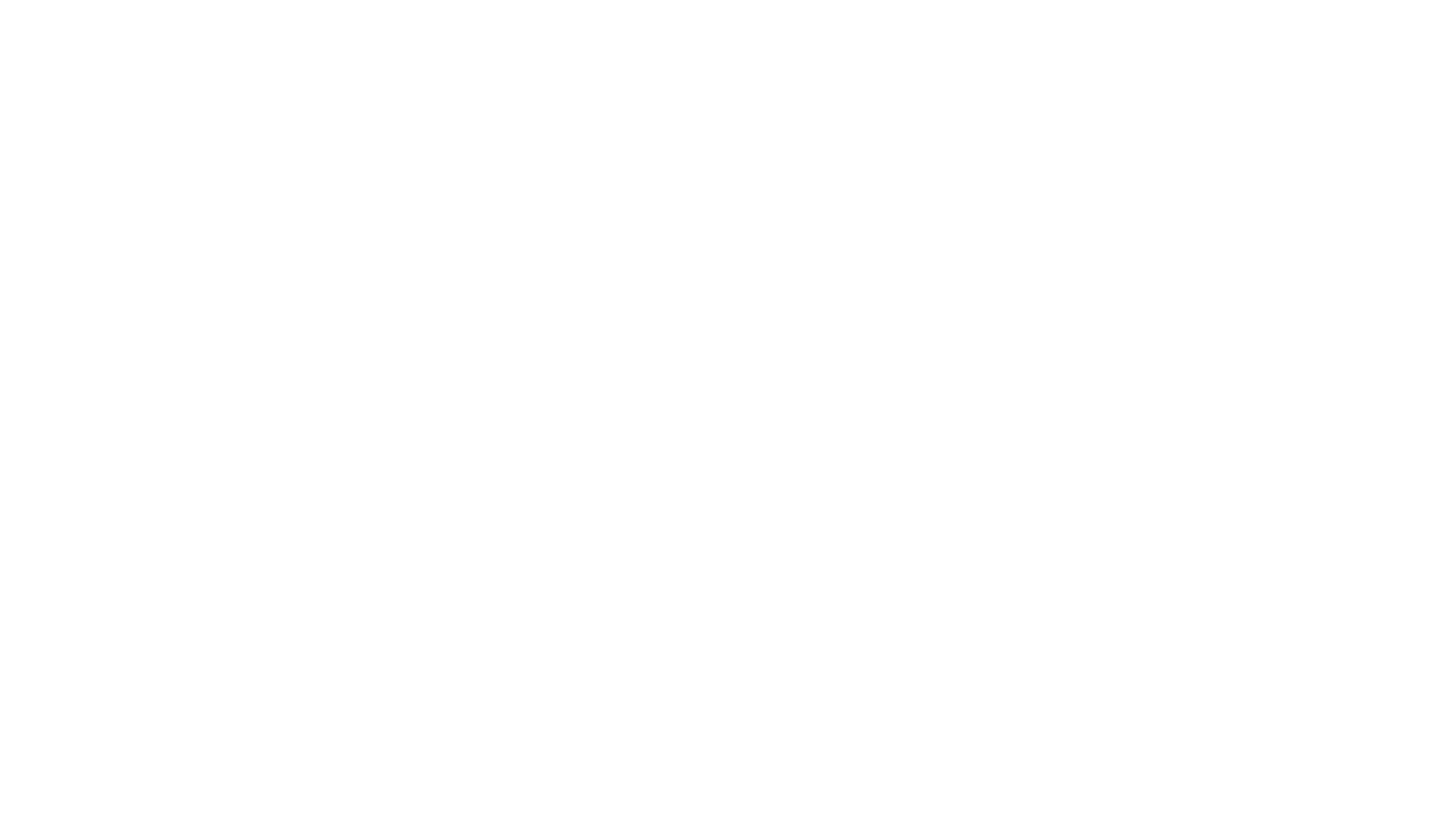
Вячеслав Харченко – Портреты Волошинского, ч.2
(Андрей Поляков, Ольга Сульчинская, Ната Сучкова)
Вячеслав Харченко – прозаик, поэт. Родился в 1971 году в Краснодарском крае, детство и юность провел в г. Петропавловске-Камчатском, окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Член Союза писателей Москвы и Русского Пен-центра. Печатался в толстых литературных журналах: Знамя, Октябрь, Волга, Арион и др. Лауреат Волошинского литературного конкурса и премии журнала «Зинзивер». Автор шести книг прозы. Рассказы переводились на немецкий, английский, китайский и турецкий языки. Живет в Симферополе.
Вместо предисловия
Волошинский фестиваль организовал Андрей Коровин. Ему помогали. Например, Наталия Мирошниченко, заместитель директора Дома-музея Волошина. На протяжении всей 22-летней жизни Волошинского фестиваля, его участниками также являлись и высокие гости, поэты, создавшие себе имя намного ранее, поэты на поколение старше нас. Им сейчас лет по 65-70, кто-то из них уже ушел из жизни, кто-то еще здравствует и активно пишет. Они приезжали как гости или как члены жюри, они вели свои мастер-классы, они читали с уютной сцены Дома-музея Волошина свои стихи, некоторые вели активный образ жизни, кто-то был затворником и интровертом. Вот об этом поколении волошинцев мне бы и хотелось написать. Есть такое модное словечко: хедлайнер. Вот о них и напишу.
Андрей Поляков
Для меня и для многих моих друзей имя поэта Андрея Полякова стало неким кодом, по которому мы отделяли своих от чужих, по которому мы понимали, наш ли это человек или не наш.
В далёком, загадочном, таинственном, но притягательном Крыму, на высоких и скалистых отрогах Чатыр-Дага, на верхнем плато, стоит высокая каменная башня, в которой живёт знаменитый русский поэт Андрей Поляков. Он встаёт на заре, когда на пахучие крымские травы опускается роса, выходит из башни, восходит на близстоящий утёс и пишет обыкновенным карандашом на обыкновенной бумаге фирмы «Снегурочка» замечательные стихи. Каждый день к нему прилетают птицы и кружат над его головой. Каждый день к нему приходят полевые мыши, послушать его стихи. Каждый день к нему приходит прекрасная любимая женщина, приносит кувшин родниковой воды, две татарские лепёшки, козий сыр и забирает листы бумаги с написанными стихами, чтобы поздним вечером при свете тусклой лампочки набить их на компьютере и отослать в далекую северную Москву в журнал «Знамя» редактору Ольге Юрьевне Ермолаевой.
В 2001 году мой друг поэт Андрей Новиков принес мне тоненькую книжку, изданную Пушкинским фондом. Называлась она «Орфографический минимум». Автор мне был неизвестен. Помню, я сел в электричку на Казанском вокзале и поехал к маме в деревню Давыдово.
Я доехал вместо 2 часов за мгновение. Мир то ли Таврический, то ли Древнегреческий, то ли Римский или Средневековый, но близкий и живой, мир современный, где все происходило тут же, буквально на соседней скамейке электрички, буквально за окном, где плыл бесконечный снежный пейзаж Подмосковья, бесконечные домишки под снегом с дымком из труб шиферных крыш, не то, что потряс, а перевернул меня. Какое-то время я просто жил в мире стихов Андрея Полякова, какое-то время я носил эту книгу с собой в заплечной сумке, как оберег. Для меня и для многих моих друзей имя поэта Андрея Полякова стало неким кодом, по которому мы отделяли своих от чужих, по которому мы понимали, наш ли это человек или не наш.
– Слав, ты Оксану Тимофееву читал, – говорит мне Андрей с кресла своего балкона на Лермонтова в Симферополе.
– Кого? – спрашиваю я.
– Оксана, философ.
– Нет, – отвечаю я.
– А принцип неопределённости Гейзенберга помнишь, ты же математический закончил? – спрашивает меня Андрей.
– Помню, но смутно.
– А Гегель, вот Гегель, теза и антитеза.
«Андрей, – думаю я, – какая теза, какая антитеза, какой синтез», – и смотрю, как стрижи стремительно чертят линии на горизонте за окном.
«Боже, Боже, Андрей, сколько премий у тебя – Премия Андрея Белого, Русская премия, Волошинская Премия, Парабола – а ты как был, так и остался ребенком, одиноким, загадочным, может, даже заброшенным, капризным, но ребенком!»
– Слава, ты прочтешь Оксану Тимофееву? – спрашивает меня Поляков.
– Прочту, Андрюша, прочту, – отвечаю я и гуглю книги Тимофеевой.
В 2001 году мой друг поэт Андрей Новиков принес мне тоненькую книжку, изданную Пушкинским фондом. Называлась она «Орфографический минимум». Автор мне был неизвестен. Помню, я сел в электричку на Казанском вокзале и поехал к маме в деревню Давыдово.
Я доехал вместо 2 часов за мгновение. Мир то ли Таврический, то ли Древнегреческий, то ли Римский или Средневековый, но близкий и живой, мир современный, где все происходило тут же, буквально на соседней скамейке электрички, буквально за окном, где плыл бесконечный снежный пейзаж Подмосковья, бесконечные домишки под снегом с дымком из труб шиферных крыш, не то, что потряс, а перевернул меня. Какое-то время я просто жил в мире стихов Андрея Полякова, какое-то время я носил эту книгу с собой в заплечной сумке, как оберег. Для меня и для многих моих друзей имя поэта Андрея Полякова стало неким кодом, по которому мы отделяли своих от чужих, по которому мы понимали, наш ли это человек или не наш.
– Слав, ты Оксану Тимофееву читал, – говорит мне Андрей с кресла своего балкона на Лермонтова в Симферополе.
– Кого? – спрашиваю я.
– Оксана, философ.
– Нет, – отвечаю я.
– А принцип неопределённости Гейзенберга помнишь, ты же математический закончил? – спрашивает меня Андрей.
– Помню, но смутно.
– А Гегель, вот Гегель, теза и антитеза.
«Андрей, – думаю я, – какая теза, какая антитеза, какой синтез», – и смотрю, как стрижи стремительно чертят линии на горизонте за окном.
«Боже, Боже, Андрей, сколько премий у тебя – Премия Андрея Белого, Русская премия, Волошинская Премия, Парабола – а ты как был, так и остался ребенком, одиноким, загадочным, может, даже заброшенным, капризным, но ребенком!»
– Слава, ты прочтешь Оксану Тимофееву? – спрашивает меня Поляков.
– Прочту, Андрюша, прочту, – отвечаю я и гуглю книги Тимофеевой.
Ольга Сульчинская
И тут нет науки расставанья, тут наука того, что если я когда-то любила тебя, то буду любить и потом, то есть вечно.
Ольга Сульчинская – поэт и прозаик. Она дважды была лауреатом Волошинского конкурса, как в поэзии, так и в прозе. По-моему, этого была удостоена еще только Лера Манович.
Два самых любимых слова поэта Ольги Сульчинской – это ангел и любовь, что и понятно, где ангел, там и любовь, но это какой-то странный ангел. Он обещает показать дорогу из Ада (то есть лирический герой намерен спуститься в Ад), он сожалеет, что у него не шесть плеч, а только два, то есть он сожалеет, что у него не шесть крыльев, а всего два, а где шесть крыльев, там и шестикрылый Серафим, а это высший ангельский чин, любитель любви, собиратель любви, но в то же время этому серафиму своих крыльев не жаль, так как все равно летать ему не ими. Как же летает ангел Сульчинской? Отчего же лирический герой Сульчинской хочет стать высшим ангельским чином?
Может оттого, что он любит так сильно не столько лирического героя, сколько все пространство в целом, весь мир, не конкретного мужчину, а мужчину как некий общий единый образ. И тут нет науки расставанья, тут наука того, что если я когда-то любила тебя, то буду любить и потом, то есть вечно. А если я буду любить тебя всегда, то и нет ненависти от расставаний. И правда, высший ангельский чин Сульчинской решает сложную задачку, как подобраться ближе не к любимому человеку (Сульчинская любит не конкретного человека), а ко всему миру, то есть решает задачу, как ближе подобраться к вечности, ведь только вечность бесконечна и всеобъемлюща.
От этого вера в благие вести, вера в знаки. Лирический герой Сульчинской верит в знаки, а раз верит в знаки, то готов совершить какое-то важное действие. Важный поступок. Без этого важного поступка лирический герой Ольги не может ни жить, ни умереть, то есть он либо существует вечно, либо обитает в каком-то ином измерении, неподвластном обычному человеку, но почему-то его (иного) принимают за своего все обычные взрослые люди, но люди эти грустные.
Да, это грусть, но грусть эта светлая, как у классика, грусть лирического героя Ольги Сульчинской. Может, эта грусть от того, что лирический герой знает свою судьбу и ему от этого страшно, ведь он живет все-таки под знаменем искусства.
Тончайшая психологическая ткань прозы Ольги Сульчинской поражает своей одухотворенностью. Все ее персонажи вдохновенны, все влюблены в жизнь, чисты и сердечны, это настоящие люди. Море, рыбалка, охота, одинокая палатка на берегу залива, горы, виноград – все это проявления жизни, как ее видит лирический герой. Но в то же время этот лирический герой чем-то неумолимо связан с городом, с большим, гремящим и шумным мегаполисом, и это что-то не дает ему стать частью природной жизни и гонит в гнетущее жерло цивилизации. А что остается? Остается жизнь, остается любовь, остается вечный, прекрасный мир и шестикрылый ангел.
С Олей я не раз пересекался в Коктебеле, один раз мы очень проникновенно беседовали в Доме-музее Булгакова в Москве. К Ольге нельзя не испытывать симпатию
Два самых любимых слова поэта Ольги Сульчинской – это ангел и любовь, что и понятно, где ангел, там и любовь, но это какой-то странный ангел. Он обещает показать дорогу из Ада (то есть лирический герой намерен спуститься в Ад), он сожалеет, что у него не шесть плеч, а только два, то есть он сожалеет, что у него не шесть крыльев, а всего два, а где шесть крыльев, там и шестикрылый Серафим, а это высший ангельский чин, любитель любви, собиратель любви, но в то же время этому серафиму своих крыльев не жаль, так как все равно летать ему не ими. Как же летает ангел Сульчинской? Отчего же лирический герой Сульчинской хочет стать высшим ангельским чином?
Может оттого, что он любит так сильно не столько лирического героя, сколько все пространство в целом, весь мир, не конкретного мужчину, а мужчину как некий общий единый образ. И тут нет науки расставанья, тут наука того, что если я когда-то любила тебя, то буду любить и потом, то есть вечно. А если я буду любить тебя всегда, то и нет ненависти от расставаний. И правда, высший ангельский чин Сульчинской решает сложную задачку, как подобраться ближе не к любимому человеку (Сульчинская любит не конкретного человека), а ко всему миру, то есть решает задачу, как ближе подобраться к вечности, ведь только вечность бесконечна и всеобъемлюща.
От этого вера в благие вести, вера в знаки. Лирический герой Сульчинской верит в знаки, а раз верит в знаки, то готов совершить какое-то важное действие. Важный поступок. Без этого важного поступка лирический герой Ольги не может ни жить, ни умереть, то есть он либо существует вечно, либо обитает в каком-то ином измерении, неподвластном обычному человеку, но почему-то его (иного) принимают за своего все обычные взрослые люди, но люди эти грустные.
Да, это грусть, но грусть эта светлая, как у классика, грусть лирического героя Ольги Сульчинской. Может, эта грусть от того, что лирический герой знает свою судьбу и ему от этого страшно, ведь он живет все-таки под знаменем искусства.
Тончайшая психологическая ткань прозы Ольги Сульчинской поражает своей одухотворенностью. Все ее персонажи вдохновенны, все влюблены в жизнь, чисты и сердечны, это настоящие люди. Море, рыбалка, охота, одинокая палатка на берегу залива, горы, виноград – все это проявления жизни, как ее видит лирический герой. Но в то же время этот лирический герой чем-то неумолимо связан с городом, с большим, гремящим и шумным мегаполисом, и это что-то не дает ему стать частью природной жизни и гонит в гнетущее жерло цивилизации. А что остается? Остается жизнь, остается любовь, остается вечный, прекрасный мир и шестикрылый ангел.
С Олей я не раз пересекался в Коктебеле, один раз мы очень проникновенно беседовали в Доме-музее Булгакова в Москве. К Ольге нельзя не испытывать симпатию
Ната Сучкова
Души у всех живущих в этом мирке сродни бабочкам – они летят, куда их несет ветер, по зову сердца, по зову этих, то ли внешних, то ли надмирных обстоятельств.
рыбка, рыбка, чудесная рыбка моя,
голубая форель, серебро на солнце,
как не пораниться о тебя,
не уколоться?
В мире поэта Наты Сучковой малый уездный мир стал точкой сборки Вселенной, причем не просто земной вселенной, а Вселенной как некоего надмирного устройства. Морем стало озеро Неро, а океаном река, на которой рыбачат старики; играют дети, но в воротах стоит ангел с ключами от Рая (апостол Петр?), а не сопливый пацаненок. Население этого мирка, то ли божественное, то ли бомжеватое; родственники на погосте спят под смоляными соснами, а не просто лежат в могилах, и, кажется, сейчас проснутся, воскреснут, встанут из могил по всем канонам русского философа Николая Федорова – разбредутся по этому уездному миру, по своим нехитрым делам, не вызвав никакого удивления у окружающих. Если все живы, то значит, никто и не умер, и их воскрешение вполне естественно.
В таком странном месте на самом деле забудешь, как хлопают двери в ад, и не потому, что знание о нем какое-то смутное, и не потому, что ад и так на земле, и не потому, что рай и так на земле, а от бессознательного обожествления всего сущего. А может, и от непонимания того, что же это такое – это самое божественное, если мы тут и так живем как земные боги.
А раз мир идиллический, непонятный и смутный, то и души у всех живущих в этом мирке сродни бабочкам – они летят, куда их несет ветер, по зову сердца, по зову этих, то ли внешних, то ли надмирных обстоятельств, и кажется, что все эти обстоятельства созданы не этими самыми душами, а чем-то или кем-то совсем несоизмеримо могущественным, но каким-то расплывчатым и непроявленным. А если и проявляется эта божественная сущность мира, то в совсем обыденных событиях: сбор меда под гудение пчел, белый дым бань, работа, семейные обстоятельства, школа, влюбленность. То ли обитатели не верят в чудо, то ли считают, что их ежедневная рутина в этом ржавом разнотравье божественным чудом и является.
голубая форель, серебро на солнце,
как не пораниться о тебя,
не уколоться?
В мире поэта Наты Сучковой малый уездный мир стал точкой сборки Вселенной, причем не просто земной вселенной, а Вселенной как некоего надмирного устройства. Морем стало озеро Неро, а океаном река, на которой рыбачат старики; играют дети, но в воротах стоит ангел с ключами от Рая (апостол Петр?), а не сопливый пацаненок. Население этого мирка, то ли божественное, то ли бомжеватое; родственники на погосте спят под смоляными соснами, а не просто лежат в могилах, и, кажется, сейчас проснутся, воскреснут, встанут из могил по всем канонам русского философа Николая Федорова – разбредутся по этому уездному миру, по своим нехитрым делам, не вызвав никакого удивления у окружающих. Если все живы, то значит, никто и не умер, и их воскрешение вполне естественно.
В таком странном месте на самом деле забудешь, как хлопают двери в ад, и не потому, что знание о нем какое-то смутное, и не потому, что ад и так на земле, и не потому, что рай и так на земле, а от бессознательного обожествления всего сущего. А может, и от непонимания того, что же это такое – это самое божественное, если мы тут и так живем как земные боги.
А раз мир идиллический, непонятный и смутный, то и души у всех живущих в этом мирке сродни бабочкам – они летят, куда их несет ветер, по зову сердца, по зову этих, то ли внешних, то ли надмирных обстоятельств, и кажется, что все эти обстоятельства созданы не этими самыми душами, а чем-то или кем-то совсем несоизмеримо могущественным, но каким-то расплывчатым и непроявленным. А если и проявляется эта божественная сущность мира, то в совсем обыденных событиях: сбор меда под гудение пчел, белый дым бань, работа, семейные обстоятельства, школа, влюбленность. То ли обитатели не верят в чудо, то ли считают, что их ежедневная рутина в этом ржавом разнотравье божественным чудом и является.
Обитатели этого мира чуют небесную дрожь, но никого не ждут. И правда, какого второго пришествия ждать, если все и так произошло, если это и есть точка сборки Вселенной, мир после пришествия.
Может, это эстетика распада? Да нет, ведь над всем этим миром, как музыка небесная, плывут какие-то неведомые голоса неведомых существ, а если раскроешь ладонь, то с небес в нее спустится благодать, но почему-то жители этого мира не воздают хвалу Господу, а уверены, что он повинен в создании их мира. И вот возникает вопрос, в чем же вина надмирных сил, если такой мир существует?
Может, потому, что обитатели этого мира чуют небесную дрожь, но никого не ждут. И правда, какого второго пришествия ждать, если все и так произошло, если это и есть точка сборки Вселенной, мир после пришествия. Они считают, что небо говорит с ними на чужом языке и чужим языком, хотя вроде ничего дурного или противоестественного жители не делают. Они просто не замечают надмирных сил, они и так сами по себе без внешнего участия едут в рай.
Старухи едут в рай, набилися в автобус,
Водитель ждет старух, кондуктор ждет чудес.
Старухи едут в рай – не очень далеко.
Но тут вдруг в этом Раю лирического героя Наты Сучковой пошел снег. Снег, снег, снег, рай, рай, рай. И все встало на свои места. И язык стал своим, а не чужим, и благодать разлилась естественно и всемирно, и апостол Петр вставил ключ в замочную скважину и щелкнул замком.
С Натой Сучковой я познакомился в конце девяностых в Литературном институте и в двухтысячных на Волошинском фестивале в Крыму, но пересекались мы мало, зато Ната довольно много общалась с моей женой Левиной Леной и один раз даже останавливалась у меня с ночевкой в моей квартире в Люблино.
Ната – лауреат премии «Московский счет», «Волошинского конкурса» за книгу «Деревенская проза», на Волошинском фестивале выигрывала поэтический турнир.
Автор многих книг стихов, печаталась в толстых литературных журналах «Новый мир», «Октябрь», «Арион», «Волга», «Дети Ра» и других.
Может, потому, что обитатели этого мира чуют небесную дрожь, но никого не ждут. И правда, какого второго пришествия ждать, если все и так произошло, если это и есть точка сборки Вселенной, мир после пришествия. Они считают, что небо говорит с ними на чужом языке и чужим языком, хотя вроде ничего дурного или противоестественного жители не делают. Они просто не замечают надмирных сил, они и так сами по себе без внешнего участия едут в рай.
Старухи едут в рай, набилися в автобус,
Водитель ждет старух, кондуктор ждет чудес.
Старухи едут в рай – не очень далеко.
Но тут вдруг в этом Раю лирического героя Наты Сучковой пошел снег. Снег, снег, снег, рай, рай, рай. И все встало на свои места. И язык стал своим, а не чужим, и благодать разлилась естественно и всемирно, и апостол Петр вставил ключ в замочную скважину и щелкнул замком.
С Натой Сучковой я познакомился в конце девяностых в Литературном институте и в двухтысячных на Волошинском фестивале в Крыму, но пересекались мы мало, зато Ната довольно много общалась с моей женой Левиной Леной и один раз даже останавливалась у меня с ночевкой в моей квартире в Люблино.
Ната – лауреат премии «Московский счет», «Волошинского конкурса» за книгу «Деревенская проза», на Волошинском фестивале выигрывала поэтический турнир.
Автор многих книг стихов, печаталась в толстых литературных журналах «Новый мир», «Октябрь», «Арион», «Волга», «Дети Ра» и других.
Читайте и другие портреты Волошинского фестиваля: Портреты Волошинского



