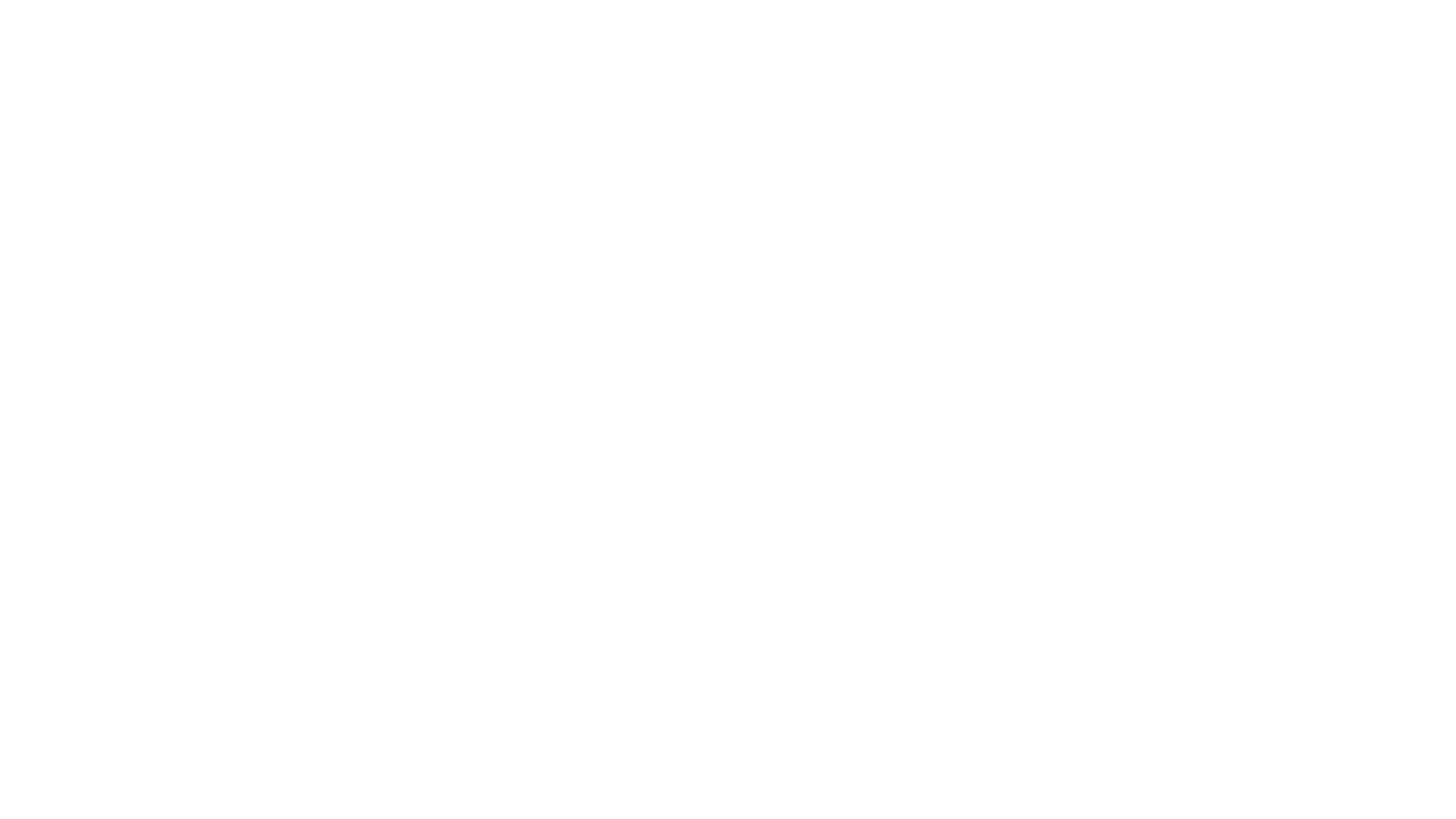
Вячеслав Харченко – Портреты Волошинского, ч.3
(Булгаковский Салон Андрея Коровина, Елена Семенова, Герман Власов, Алёна Бабанская, Елена Левина)
Вячеслав Харченко – прозаик, поэт. Родился в 1971 году в Краснодарском крае, детство и юность провел в г. Петропавловске-Камчатском, окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Член Союза писателей Москвы и Русского Пен-центра. Печатался в толстых литературных журналах: Знамя, Октябрь, Волга, Арион и др. Лауреат Волошинского литературного конкурса и премии журнала «Зинзивер». Автор шести книг прозы. Рассказы переводились на немецкий, английский, китайский и турецкий языки. Живет в Симферополе.
Вместо предисловия
Волошинский фестиваль организовал Андрей Коровин. Ему помогали. Например, Наталия Мирошниченко, заместитель директора Дома-музея Волошина. На протяжении всей 22-летней жизни Волошинского фестиваля, его участниками также являлись и высокие гости, поэты, создавшие себе имя намного ранее, поэты на поколение старше нас. Им сейчас лет по 65-70, кто-то из них уже ушел из жизни, кто-то еще здравствует и активно пишет. Они приезжали как гости или как члены жюри, они вели свои мастер-классы, они читали с уютной сцены Дома-музея Волошина свои стихи, некоторые вели активный образ жизни, кто-то был затворником и интровертом. Вот об этом поколении волошинцев мне бы и хотелось написать. Есть такое модное словечко: хедлайнер. Вот о них и напишу.
Булгаковский салон Андрея Коровина
От всего этого фестиваля лиц у меня в мозгу только яркие вспышки, как будто я долго-долго хотел увидеть полярное сияние и вот ехал, ехал, брел, брел по арктической тундре, и вдруг всё небо среди вечной тьмы и мерзлоты озарилось невиданным дотоле светом.
Булгаковский салон Андрея Коровина существует очень давно, поэтому я ничего не помню. Дат не помню, кто был, кто не был не помню, знаю только, что сколько я пишу – столько он и существует. Перед глазами один бесконечный поэтическо-прозаический вечер, который длится, уже не прекращаясь, лет двадцать. Когда-то туда пришли юные и веселые, потом юные и веселые повзрослели, потом юные и веселые постарели, на смену им пришли новые юные и веселые, которые тоже повзрослели и постарели, а потом, видимо, придут еще одни юные и веселые, которые тоже повзрослеют и постареют.
От всего этого фестиваля лиц у меня в мозгу только яркие вспышки, как будто я долго-долго хотел увидеть полярное сияние и вот ехал, ехал, брел, брел по арктической тундре, и вдруг всё небо среди вечной тьмы и мерзлоты озарилось невиданным дотоле светом.
Многих, кто участвовал в этом карнавале, уже нет, кто-то уехал, кто-то затих, но все равно их живые лица, их голоса никак не уйдут из моей памяти, потому что человеческая память имеет странное свойство: запоминать все хорошее и прекрасное, пусть даже даты и числа стерлись и померкли.
Иногда я понимаю, что постоянно слышу какие-то разговоры за кулисами, какое-то звяканье бокалов с шампанским, меня кто-то куда-то тащит, меня кто-то зачем-то целует, потом обнимает, потом читает новый свой стих или стих какого-нибудь классика, например Мандельштама или Багрицкого, или стих не классика, но очень хорошего, потом мы обязательно спорим, потом мы обязательно миримся, потом снова звон бокалов, и мы уже какой-то неимоверной толпой оказываемся во дворе у памятника героям Булгакова, или в каком-то кафе, или, прости господи, в ресторане. Кто-то поет, кто-то танцует, мне опять читают стихи, потом яркий, яркий свет – это я на сцене – я тоже что-то читаю, мне хлопают, потом свистят, я тоже хлопаю и свищу. Снова звон бокалов, но теперь уже почему-то всплывают Тредиаковский, Гандлевский, Кублановский, Слуцкий, Гандельсман и Параджанов. За Параджановым я узнаю Моне или Мане, кто их там разберет. Потом Эйнштейн, Эпштейн и Эйзенштейн.
Потом мы все куда-то едем. На метро. Нет, на такси. Нет! Мы летим на тройках! Удалой ямщик поет что-то нечленораздельное, но долгое, справа прижимается очаровательная красотка, слева прижимается очаровательная красотка, вокруг вопят друзья, метет знаменитая русская поземка, и где-то в глубине, в самой душе, царит какая-то невыразимая легкость, счастье рвется наружу, словно это всё и есть счастье (тут кто-то цитирует Рубцова и кого-то ругает, мы тоже что-то цитируем, возможно, Ерофеева, и кого-то ругаем, потом целуемся и снова читаем стихи, теперь уже свои), словно мы там, в вечной России, и нам вечные 18, и мы только что познали настоящий русский дзен.
От всего этого фестиваля лиц у меня в мозгу только яркие вспышки, как будто я долго-долго хотел увидеть полярное сияние и вот ехал, ехал, брел, брел по арктической тундре, и вдруг всё небо среди вечной тьмы и мерзлоты озарилось невиданным дотоле светом.
Многих, кто участвовал в этом карнавале, уже нет, кто-то уехал, кто-то затих, но все равно их живые лица, их голоса никак не уйдут из моей памяти, потому что человеческая память имеет странное свойство: запоминать все хорошее и прекрасное, пусть даже даты и числа стерлись и померкли.
Иногда я понимаю, что постоянно слышу какие-то разговоры за кулисами, какое-то звяканье бокалов с шампанским, меня кто-то куда-то тащит, меня кто-то зачем-то целует, потом обнимает, потом читает новый свой стих или стих какого-нибудь классика, например Мандельштама или Багрицкого, или стих не классика, но очень хорошего, потом мы обязательно спорим, потом мы обязательно миримся, потом снова звон бокалов, и мы уже какой-то неимоверной толпой оказываемся во дворе у памятника героям Булгакова, или в каком-то кафе, или, прости господи, в ресторане. Кто-то поет, кто-то танцует, мне опять читают стихи, потом яркий, яркий свет – это я на сцене – я тоже что-то читаю, мне хлопают, потом свистят, я тоже хлопаю и свищу. Снова звон бокалов, но теперь уже почему-то всплывают Тредиаковский, Гандлевский, Кублановский, Слуцкий, Гандельсман и Параджанов. За Параджановым я узнаю Моне или Мане, кто их там разберет. Потом Эйнштейн, Эпштейн и Эйзенштейн.
Потом мы все куда-то едем. На метро. Нет, на такси. Нет! Мы летим на тройках! Удалой ямщик поет что-то нечленораздельное, но долгое, справа прижимается очаровательная красотка, слева прижимается очаровательная красотка, вокруг вопят друзья, метет знаменитая русская поземка, и где-то в глубине, в самой душе, царит какая-то невыразимая легкость, счастье рвется наружу, словно это всё и есть счастье (тут кто-то цитирует Рубцова и кого-то ругает, мы тоже что-то цитируем, возможно, Ерофеева, и кого-то ругаем, потом целуемся и снова читаем стихи, теперь уже свои), словно мы там, в вечной России, и нам вечные 18, и мы только что познали настоящий русский дзен.
Ты и не хочешь иной жизни, потому что, оказывается, что настоящая жизнь состоит не из работы, семьи и выхода на пенсию, а вот из этих цитат, из этих стихов, из этой прозы, из этих строчечек, из этих лиц, из этой сцены, из этого вечно меняющегося кота, который из поколение в поколение получает одну и ту же кличку Бегемот
И это то ли безобразие, то ли просветление длится так долго, что ты уже и не замечаешь, как новое безобразие перетекает в следующее просветление, а самое главное – ты и не хочешь иной жизни, потому что, оказывается, что настоящая жизнь состоит не из работы, семьи и выхода на пенсию, а вот из этих цитат, из этих стихов, из этой прозы, из этих строчечек, из этих лиц, из этой сцены, из этого вечно меняющегося кота, который из поколение в поколение получает одну и ту же кличку Бегемот, и тебе уже непонятно: эта раздвоенность жизни – это нормально или ты живешь именно там, а не здесь, и именно в этих поэтических строках, в этих поэтических вечерах, среди этих зыбких, но таких реальных и нужных друзей.
И ты вдруг начинаешь понимать: что бы ни произошло, что бы ни случилось, какие бы кони Апокалипсиса не застучали своими чудовищными копытами, какие бы ни случились войны и конфликты, как бы ты не переругался и не перемирился, куда бы тебя не забросило, ты все равно останешься частью этой маленькой замкнутой вселенной, куда тебя занесло по своей (по своей ли?) воле или же по воле провидения.
А затем, вдруг, ты отчетливо и как-то всеобъемлюще начинаешь принимать и понимать всех литературных героев прошлого, весь этот Золотой век, весь этот Серебряный век, Политехнический, Московское время, понимать, что они чувствовали, как жили, чем дышали, к чему стремились и к чему пришли.
И вот это вот понимание, к чему пришли прошлые, и дает тебе то ли мудрость, то ли силу ценить этот замкнутый и чудаковатый мир дома Булгакова, потому что на самом деле ничто не ушло, никто не умер, все живы, все целы, просто перешли в совсем иное измерение, заглянуть в тайны которого тебе позволили судьба и эти зыбкие, тонкие, нежные и вечные литературные материи.
И ты вдруг начинаешь понимать: что бы ни произошло, что бы ни случилось, какие бы кони Апокалипсиса не застучали своими чудовищными копытами, какие бы ни случились войны и конфликты, как бы ты не переругался и не перемирился, куда бы тебя не забросило, ты все равно останешься частью этой маленькой замкнутой вселенной, куда тебя занесло по своей (по своей ли?) воле или же по воле провидения.
А затем, вдруг, ты отчетливо и как-то всеобъемлюще начинаешь принимать и понимать всех литературных героев прошлого, весь этот Золотой век, весь этот Серебряный век, Политехнический, Московское время, понимать, что они чувствовали, как жили, чем дышали, к чему стремились и к чему пришли.
И вот это вот понимание, к чему пришли прошлые, и дает тебе то ли мудрость, то ли силу ценить этот замкнутый и чудаковатый мир дома Булгакова, потому что на самом деле ничто не ушло, никто не умер, все живы, все целы, просто перешли в совсем иное измерение, заглянуть в тайны которого тебе позволили судьба и эти зыбкие, тонкие, нежные и вечные литературные материи.
Елена Семенова
Лена раз за разом настойчиво ездила в Коктебель, словно пыталась там найти нулевые, но это были не нулевые, давно не нулевые. Она останавливалась у меня в Симферополе, и мы ели инжир и персики, и нам было так хорошо, словно всё вернулось, словно ничего не изменилось. И волны, и Черное море, и дельфины, и чайки, и эпоха.
Есть люди, которые несут радость и свет, и тем более ужасен их уход. Лена Семенова умела быть счастливой не только сама, но осчастливливать людей, которых встречала, и все пространство, в котором жила. Впервые я с ней познакомился в Литературном институте в году 2001 или 2002-ом.
Я знал, как её зовут, она тоже знала, как меня зовут, но на протяжении всех 30-ти лет, что я прожил в Москве, мы с ней пересекались разве только на литературных вечерах, где немного церемонно (что в принципе для Лены нехарактерно было) раскланивались. У нас было много общих друзей и знакомых, возможно, даже общие интересы, но раскланивались мы почему-то церемонно.
Лена до мурашек, до щенячьей радости любила Крым, а литературный Крым — это Коктебель, а Коктебель нулевых и десятых – это Волошинский фестиваль. Я тоже люблю Крым, я тоже люблю Коктебель, и эта любовь к Крыму нас сближала.
Кара-Дагские рассветы, ласковые волны Черного моря, Херес и Коктебельский коньяк три звездочки, чтение стихов, слушание стихов, написание стихов, друзья и единомышленники – всё это Коктебель нулевых и десятых.
Но даже на фоне всего литературного сообщества тех лет, местами странного и противоречивого, межнационального и межгосударственного (тогда это было возможно), Лена Листик (так ее все вокруг называли) выделялась необычайно: свобода суждений, свобода дружбы и литературного высказывания, свобода в одежде.
Мы все носили Листика на руках. И да, это был листик. Настоящий листик. Тонкокожий и легкий, летящий и парящий, любящий и любимый, вечно улыбающийся, звонкий, готовый к поцелуям и объятиям.
Но, как ни странно, даже Коктебель нас не сблизил. Хотя мы и стали намного лучше понимать друг друга, все равно какая-то церемонность присутствовала. Почему? Отчего? Бог его знает.
Возможно, так нужно было. Нас сблизили только последние события. Я переехал в Крым, а Лена раз за разом настойчиво ездила в Коктебель, словно пыталась там найти нулевые, но это были не нулевые, давно не нулевые.
Лена останавливалась у меня в Симферополе, и мы ели инжир и персики, козий сыр и хамсу, пили Мускат Белый Красного камня, и нам было так хорошо, словно всё вернулось, словно ничего не изменилось. И волны, и Черное море, и дельфины, и чайки, и эпоха.
Теперь я могу сказать, что мы понимали друг друга. Понимали, когда встречались в Крыму и в Москве, понимали на литературных вечерах и сейшенах, понимали в «Чебуречной СССР», понимали в «Булгаковском доме». У нас появились свои словечки и свои темы, даже свои какие-то перемигивания и перешёптывания, свой, понятный только нам, язык. Я ей дарил свои книги, она дарила мне свои книги и книги тех поэтов, в издании которых она принимала участие. Она писала прекрасные стихи. Листик любила поэзию. Нет, не так. Листик Любила Поэзию. В ней я нашел еще одного друга, но наша дружба оказалась короткой. Спасибо тебе, Лена, за то, что ты была. Спасибо тебе, Лена, за то, что ты есть!
Я знал, как её зовут, она тоже знала, как меня зовут, но на протяжении всех 30-ти лет, что я прожил в Москве, мы с ней пересекались разве только на литературных вечерах, где немного церемонно (что в принципе для Лены нехарактерно было) раскланивались. У нас было много общих друзей и знакомых, возможно, даже общие интересы, но раскланивались мы почему-то церемонно.
Лена до мурашек, до щенячьей радости любила Крым, а литературный Крым — это Коктебель, а Коктебель нулевых и десятых – это Волошинский фестиваль. Я тоже люблю Крым, я тоже люблю Коктебель, и эта любовь к Крыму нас сближала.
Кара-Дагские рассветы, ласковые волны Черного моря, Херес и Коктебельский коньяк три звездочки, чтение стихов, слушание стихов, написание стихов, друзья и единомышленники – всё это Коктебель нулевых и десятых.
Но даже на фоне всего литературного сообщества тех лет, местами странного и противоречивого, межнационального и межгосударственного (тогда это было возможно), Лена Листик (так ее все вокруг называли) выделялась необычайно: свобода суждений, свобода дружбы и литературного высказывания, свобода в одежде.
Мы все носили Листика на руках. И да, это был листик. Настоящий листик. Тонкокожий и легкий, летящий и парящий, любящий и любимый, вечно улыбающийся, звонкий, готовый к поцелуям и объятиям.
Но, как ни странно, даже Коктебель нас не сблизил. Хотя мы и стали намного лучше понимать друг друга, все равно какая-то церемонность присутствовала. Почему? Отчего? Бог его знает.
Возможно, так нужно было. Нас сблизили только последние события. Я переехал в Крым, а Лена раз за разом настойчиво ездила в Коктебель, словно пыталась там найти нулевые, но это были не нулевые, давно не нулевые.
Лена останавливалась у меня в Симферополе, и мы ели инжир и персики, козий сыр и хамсу, пили Мускат Белый Красного камня, и нам было так хорошо, словно всё вернулось, словно ничего не изменилось. И волны, и Черное море, и дельфины, и чайки, и эпоха.
Теперь я могу сказать, что мы понимали друг друга. Понимали, когда встречались в Крыму и в Москве, понимали на литературных вечерах и сейшенах, понимали в «Чебуречной СССР», понимали в «Булгаковском доме». У нас появились свои словечки и свои темы, даже свои какие-то перемигивания и перешёптывания, свой, понятный только нам, язык. Я ей дарил свои книги, она дарила мне свои книги и книги тех поэтов, в издании которых она принимала участие. Она писала прекрасные стихи. Листик любила поэзию. Нет, не так. Листик Любила Поэзию. В ней я нашел еще одного друга, но наша дружба оказалась короткой. Спасибо тебе, Лена, за то, что ты была. Спасибо тебе, Лена, за то, что ты есть!
Герман Власов
Ели на участке Германа – вечно новогодние, вечно праздничные, и кажется, что этот праздник природы, это пиршество природы и есть природа поэзии Власова.
Гофмановская поэзия Германа Власова поражает своей орнаментальностью и зыбкостью речи. Сказочные герои: полевки, трясогузки, бабочки, ящерки, серебряные рыбы, летучие мыши, дачные обитатели, деревья, травинки, паутинки, промокшие рыбаки, раскаленная печка в зимнюю непогоду живут в волшебном мире, который и создал Герман Власов. Как студент Ансельм, тонкокожий, душевный, ранимый и прозрачный, Герман ищет в этом мире незримые и мистические ингредиенты, без которых невозможно представить Вселенную. Мир его Галактик тянется к звездам и поражает своей отточенной красотой.
Дачный затворник Герман сродни Пастернаку принимает природу как единственную основу бытия и выращивает смородину, жимолость, виноград, а ели на его участке – вечно новогодние, вечно праздничные, и кажется, что этот праздник природы, это пиршество природы и есть природа поэзии Власова.
С Германом мы знакомы со времен расцвета сайтов со свободным размещением и времен «Рукомоса», то есть с года 1999. Его ник в сети был «Прочие Опасности». Какие прочие опасности могли подстерегать поэта 25 лет назад? Видимо, главная опасность для поэта — потерять мир поэзии, мир тонких материй, связь с миром тонких материй, чего Герману удалось избежать. Он так же, как и 25 лет назад, любит веселые компании, красивых женщин, ночные посиделки, поэтические чтения и встречи и видит те детали повседневности, мимо которых мы проходим.
Дачный затворник Герман сродни Пастернаку принимает природу как единственную основу бытия и выращивает смородину, жимолость, виноград, а ели на его участке – вечно новогодние, вечно праздничные, и кажется, что этот праздник природы, это пиршество природы и есть природа поэзии Власова.
С Германом мы знакомы со времен расцвета сайтов со свободным размещением и времен «Рукомоса», то есть с года 1999. Его ник в сети был «Прочие Опасности». Какие прочие опасности могли подстерегать поэта 25 лет назад? Видимо, главная опасность для поэта — потерять мир поэзии, мир тонких материй, связь с миром тонких материй, чего Герману удалось избежать. Он так же, как и 25 лет назад, любит веселые компании, красивых женщин, ночные посиделки, поэтические чтения и встречи и видит те детали повседневности, мимо которых мы проходим.
По большому счету, что надо поэту? Состояние влюбленности. Влюбленность в мир обязательное условие для поэта, а проводником этой влюбленности может быть что угодно: лишь бы была влюбленность.
Я не раз бывал на его даче в Конаково, да и многие поэты и прозаики моего круга были на даче Германа в Конаково. Она стоит на берегу Иваньковского водохранилища, и каждое утро мы ходили купаться, удить рыбу, жарить шашлыки и собирать грибы.
Спокойный размеренный быт и душевные бесконечные литературные разговоры, видимо, подпитывают поэзию Власова столь необходимой поэтической энергией и позволяют ему быть в поэтической форме.
По большому счету, что надо поэту? Состояние влюбленности. Влюбленность в мир обязательное условие для поэта, а проводником этой влюбленности может быть что угодно: лишь бы была влюбленность.
В Крым на Волошинский фестиваль Герман приезжал бесчисленное количество раз. Он был лауреатом, у него Волошинская премия. В ипостаси фотографа он выигрывал конкурс фото-поэзии. Хорошо известна его серия фотопортретов писателей. Книга избранных стихов Германа Власова была удостоена премии имени Фазиля Искандера.
Спокойный размеренный быт и душевные бесконечные литературные разговоры, видимо, подпитывают поэзию Власова столь необходимой поэтической энергией и позволяют ему быть в поэтической форме.
По большому счету, что надо поэту? Состояние влюбленности. Влюбленность в мир обязательное условие для поэта, а проводником этой влюбленности может быть что угодно: лишь бы была влюбленность.
В Крым на Волошинский фестиваль Герман приезжал бесчисленное количество раз. Он был лауреатом, у него Волошинская премия. В ипостаси фотографа он выигрывал конкурс фото-поэзии. Хорошо известна его серия фотопортретов писателей. Книга избранных стихов Германа Власова была удостоена премии имени Фазиля Искандера.
Алёна Бабанская
Стихи возникают тогда, когда вас не просили, стихи возникают от нечего делать, от дуракаваляния, они бесцельны, а раз бесцельны, то вечны.
Кругом снега, снега, снега, снега
Прозрачны словно патока–нуга.
Поэзия не терпит целеполагания. Если вы проснётесь утром и вас вдруг попросят написать поэму о Братской ГЭС, просто потому что вас очень-очень попросят написать поэму о Братской ГЭС, даже если вас самолётом свозят на эту Братскую ГЭС или даже через всю страну отвезут для закрепления успеха на длинном зеленом поезде, то у вас получится не поэма о Братской ГЭС, а поэма, где вас попросили написать о Братской ГЭС. Стихи возникают тогда, когда вас не просили, стихи возникают от нечего делать, от дуракаваляния, они бесцельны, а раз бесцельны, то вечны, потому что вечное искусство не имеет цели, если только вы не художник и вас не попросили написать портрет знатной аристократической вельможной особы, но и то, если вы большой художник, то даже портрет вельможи у вас будет бесцелен.
Алёна Бабанская из всех известных мне поэтов лучше всех валяет дурака, а если поэт валяет дурака, то ему открыты все поэтические бездны.
Вот он едет по бесконечной снежной тундре и валяет дурака, вот он рассматривает красноперых молчаливых рыб и валяет дурака, вот он выращивает и собирает кубанский сладкий виноград и гонит из него терпкое пьянящее вино, или жует спелые жардиолы и сливы, выплевывая на чернозем крепкие косточки, но он все равно валяет дурака, потому что не валять дурака не может.
Но проблема дуракаваляния в том, что оно незаметно и окружающими зачастую воспринимается, как не дело. Мы же не можем назвать певчую птичку дельным человеком. Певчая птичка на то и певчая птичка, что поёт о чем хочет и как хочет: то есть ни о чем, никак, как ляжет на душу, как захочется, как чувствует, как видит Вселенная и поэтическая судьба, как распорядились Олимпийские боги и Эвтерпа. Внутренняя напряжённая духовная жизнь таких поэтов скрыта от широкой публики, они незаметны, хотя и явственны. Вы не увидите птичек на литературных собраниях и фестивалях, вы ничего не узнаете об их личной жизни, их успехи не будут будоражить заголовки центральных литературных газет, вы не будете смаковать в курилках их куртуазные похождения. Они просто поют, их просто надо читать, их книги надо просто знать, их просто надо любить.
– Ну вот, – сказала мне Алёна и улыбнулась широкой открытой улыбкой.
Я тоже улыбнулся, я не могу не улыбнуться в ответ, когда улыбается Алёна.
Она залезла в сумочку и достала черно-белую квадратную книгу. На обложке было написано "Акустика".
Акустика – это учение о звуках, слышимых человеческим ухом.
Я поднял книгу на уровень глаз и прислушался.
Мы стояли в центре станции метро Китай-город, бежали пассажиры, гудели поезда, уборщики толкали свои моющие гранит машин, было шумно и громко, но я отчетливо слышал, как через эту плотную толстую обложку поёт звонкая птичка.
Алёну я знаю ещё со времен сайта ТЕРМИтник поэзии, где она была редактором, да и сейчас редакторствует в электронном журнале Формаслов.
Алена хорошая.
Прозрачны словно патока–нуга.
Поэзия не терпит целеполагания. Если вы проснётесь утром и вас вдруг попросят написать поэму о Братской ГЭС, просто потому что вас очень-очень попросят написать поэму о Братской ГЭС, даже если вас самолётом свозят на эту Братскую ГЭС или даже через всю страну отвезут для закрепления успеха на длинном зеленом поезде, то у вас получится не поэма о Братской ГЭС, а поэма, где вас попросили написать о Братской ГЭС. Стихи возникают тогда, когда вас не просили, стихи возникают от нечего делать, от дуракаваляния, они бесцельны, а раз бесцельны, то вечны, потому что вечное искусство не имеет цели, если только вы не художник и вас не попросили написать портрет знатной аристократической вельможной особы, но и то, если вы большой художник, то даже портрет вельможи у вас будет бесцелен.
Алёна Бабанская из всех известных мне поэтов лучше всех валяет дурака, а если поэт валяет дурака, то ему открыты все поэтические бездны.
Вот он едет по бесконечной снежной тундре и валяет дурака, вот он рассматривает красноперых молчаливых рыб и валяет дурака, вот он выращивает и собирает кубанский сладкий виноград и гонит из него терпкое пьянящее вино, или жует спелые жардиолы и сливы, выплевывая на чернозем крепкие косточки, но он все равно валяет дурака, потому что не валять дурака не может.
Но проблема дуракаваляния в том, что оно незаметно и окружающими зачастую воспринимается, как не дело. Мы же не можем назвать певчую птичку дельным человеком. Певчая птичка на то и певчая птичка, что поёт о чем хочет и как хочет: то есть ни о чем, никак, как ляжет на душу, как захочется, как чувствует, как видит Вселенная и поэтическая судьба, как распорядились Олимпийские боги и Эвтерпа. Внутренняя напряжённая духовная жизнь таких поэтов скрыта от широкой публики, они незаметны, хотя и явственны. Вы не увидите птичек на литературных собраниях и фестивалях, вы ничего не узнаете об их личной жизни, их успехи не будут будоражить заголовки центральных литературных газет, вы не будете смаковать в курилках их куртуазные похождения. Они просто поют, их просто надо читать, их книги надо просто знать, их просто надо любить.
– Ну вот, – сказала мне Алёна и улыбнулась широкой открытой улыбкой.
Я тоже улыбнулся, я не могу не улыбнуться в ответ, когда улыбается Алёна.
Она залезла в сумочку и достала черно-белую квадратную книгу. На обложке было написано "Акустика".
Акустика – это учение о звуках, слышимых человеческим ухом.
Я поднял книгу на уровень глаз и прислушался.
Мы стояли в центре станции метро Китай-город, бежали пассажиры, гудели поезда, уборщики толкали свои моющие гранит машин, было шумно и громко, но я отчетливо слышал, как через эту плотную толстую обложку поёт звонкая птичка.
Алёну я знаю ещё со времен сайта ТЕРМИтник поэзии, где она была редактором, да и сейчас редакторствует в электронном журнале Формаслов.
Алена хорошая.
Елена Левина
Елена Левина моя жена. Она пишет стихи и критические статьи, но написала безумно мало. Лена часто была на Волошинском фестивале. Там мы и познакомились. Она лауреат Волошинского конкурса по видеопоэзии.
Жена у меня давно живет заграницей. Из заграницы она мне шлет фотографии. Из Норвегии она прислала лосося. Из Чехии пиво. Из Дублина портрет Джойса. Из Пекина – летающего дракона. Из Израиля – арабов. Из Парижа тоже арабов и Эйфелеву башню. Я ей шлю из Алушты фотографии миндального дерева, которое растет у подъезда нашей квартиры. Миндаль в цвету, зеленый миндаль, миндаль в плодах миндаля, миндаль под снегом, хотя это бывает редко.
– Что ты ищешь? – спрашиваю я жену. Приходит фотография капибар.
– Бразилия? – спрашиваю я.
– Нет, Чили, – отвечает она.
– В чем смысл жизни? – спрашиваю я жену и шлю фотографию цветущего в Алуште персика. Приходит фотография обезьян.
– Африка, – пишу я.
– Нет, Берлинский зоопарк, – пишет жена.
– Зачем мы живем, – отвечаю я и шлю фотографию Черного моря на закате. Приходит фотография пингвинов.
– Антарктида, – пишу я.
– Нет, Кейптаун, – пишет жена.
Когда-нибудь, когда я совсем состарюсь и мои суставы станут не только хрустеть, но и перестанут гнуться, когда мои волосы не только поседеют, но и выпадут, когда кожа моя из мягкой и влажной превратиться в асфальт, я приеду в Кейптаун, зайду в таверну «Хромой Пью», возьму крепкий старый эль, и морщинистый негр мне будет рассказывать байки о белой женщине, которая здесь была давным-давно, каталась на дельфинах и выдувала чарующие звуки из морской раковины в брызгах штормовых волн под пение опасных сирен.
Жена у меня давно живет заграницей. Из заграницы она мне шлет фотографии. Из Норвегии она прислала лосося. Из Чехии пиво. Из Дублина портрет Джойса. Из Пекина – летающего дракона. Из Израиля – арабов. Из Парижа тоже арабов и Эйфелеву башню. Я ей шлю из Алушты фотографии миндального дерева, которое растет у подъезда нашей квартиры. Миндаль в цвету, зеленый миндаль, миндаль в плодах миндаля, миндаль под снегом, хотя это бывает редко.
– Что ты ищешь? – спрашиваю я жену. Приходит фотография капибар.
– Бразилия? – спрашиваю я.
– Нет, Чили, – отвечает она.
– В чем смысл жизни? – спрашиваю я жену и шлю фотографию цветущего в Алуште персика. Приходит фотография обезьян.
– Африка, – пишу я.
– Нет, Берлинский зоопарк, – пишет жена.
– Зачем мы живем, – отвечаю я и шлю фотографию Черного моря на закате. Приходит фотография пингвинов.
– Антарктида, – пишу я.
– Нет, Кейптаун, – пишет жена.
Когда-нибудь, когда я совсем состарюсь и мои суставы станут не только хрустеть, но и перестанут гнуться, когда мои волосы не только поседеют, но и выпадут, когда кожа моя из мягкой и влажной превратиться в асфальт, я приеду в Кейптаун, зайду в таверну «Хромой Пью», возьму крепкий старый эль, и морщинистый негр мне будет рассказывать байки о белой женщине, которая здесь была давным-давно, каталась на дельфинах и выдувала чарующие звуки из морской раковины в брызгах штормовых волн под пение опасных сирен.
Читайте и другие портреты Волошинского фестиваля: Портреты Волошинского, Портреты Волошинского, ч. 2



