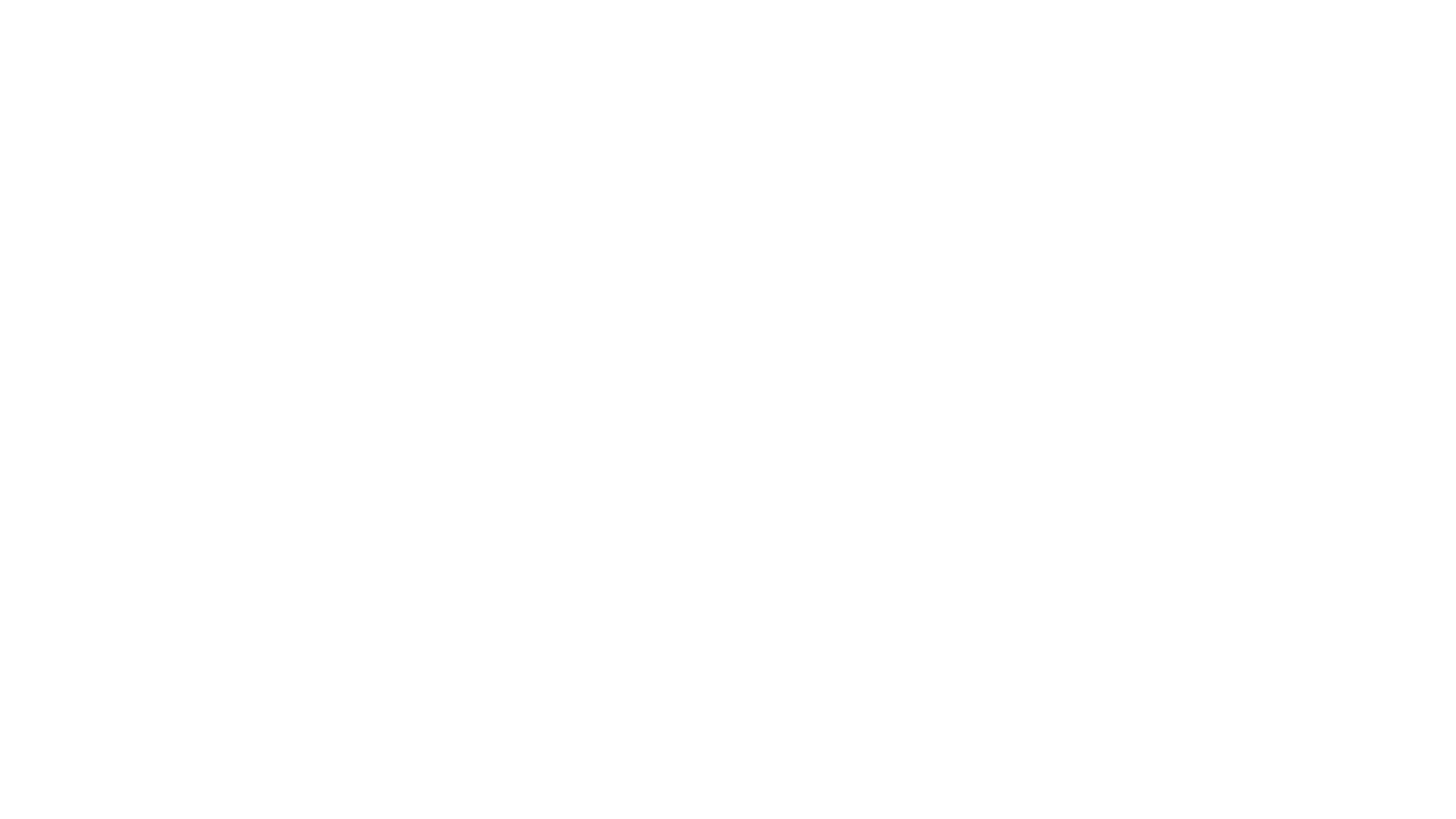
Вячеслав Харченко – Портреты Волошинского (часть 4)
(«Алконост», Александр Переверзин, Ирина Евса, Анна Гедымин, Ганна Шевченко, Алексей Алёхин, Елена Усачёва)
Предыдущую часть читайте здесь: https://prolitcult.ru/harchenko-portrety-chast-3
Вместо предисловия
Волошинский фестиваль организовал Андрей Коровин. Ему помогали. Например, Наталия Мирошниченко, заместитель директора Дома-музея Волошина. На протяжении всей 23-летней жизни Волошинского фестиваля, его участниками являлись и высокие гости, поэты, создавшие себе имя намного ранее, и поэты на поколение старше нас. Есть такое модное словечко: хедлайнер. Вот о них и напишу.
«Алконост»
С поэтами «Алконоста» я столкнулся давно. В 1997 году. Это широкий круг поэтов, но я был знаком с Ольгой Нечаевой, Григорием Петуховым, Михаилом Свищевым, Алексеем Тиматковым, Андреем Чемодановым, Евгением Лесиным, Севой Константиновым и Натой Сучковой.
Со всеми ними я пересекался в годы обучения в Литературном институте. Оля даже была у меня в московской квартире в Люблино, помнится мы обменивались видео-кассетами. С Михаилом Свищевым одно время писали в один журнал, что-то типа «Алло». На вечерах Андрея Чемоданова бывал неоднократно. Чемоданов каждый год отмечает в Зверевском центре Хелуин с черепами и атрибутами темной силы. У Леши Тиматкова и Кати Соболевой оставлял на передержу своего кота Феника. С Евгением Лесиным сталкивался в редакции «Независимой газеты», Ната Сучкова с Машей Суворовой останавливались проездом из Вологды у меня дома в Москве. С Гришей Петуховым дрался в подвале Литературного института в бытность, когда проректором по хозяйственной работе был Тиматков.
Драка была странная. Я не помню, из-за чего она началась. Видимо, из-за моего длинного языка.
Я как раз привстал и вдруг услышал свист кулака Петухова. У Гриши хороший джеб.
– На, – донеслось. А потом я завертелся, полетел, открыл спиной дверь в туалет и ударился затылком о край унитаза. Я лежал и смотрел в потолок. По потолку ползала зеленая жирная муха.
Но затылок во времена моей молодости у меня был крепкий. Я только крякнул, задумался и медленно произнес:
– Ничего себе.
Потом я потер затылок, выскочил из туалета и сбил высоченного двухметрового, тощего Гришу с ног.
Гриша завалился на стол. Я молотил его кулаками, но Гриша был не только высокий, но и очень вёрткий. Он вертелся, как уж на столе, ни один мой удар не доходил до его лица.
Я бил и бил, а Гриша Петухов вертелся и вертелся. Шло время. На стене в подвале тикали огромные часы. Секундная стрелка сделала ни один оборот.
И вдруг хрупкий, интеллигентный и образованнейший Гриша совершил замысловатое па ногами, и я снова отлетел к унитазу и снова ударился о него головой.
Я лежал и опять смотрел на зеленую жирную муху, которая ползала по потолку.
«Ничего себе», – снова подумал я.
– Ну хватит, – вдруг услышали мы голос Тиматкова.
– Ну хватит, – повторила Нечаева.
Я привстал, потер затылок и нос, ни синяков, ни царапин не было. Гриша тоже потер нос и ощупал лицо. У него тоже ни синяков, ни царапин не было.
Гриша, кстати, эту драку не помнит. Мы потом говорили с ним о ней уже в году 2020-ом в кафе «Жан-Жак», но Гриша ничего не помнил. Мы просто обнялись и посмеялись. Гриша же добрый, отзывчивый и доброжелательный человек.
Каждый поэт Алконоста заслуживает отдельного разговора. Мне ближе всего стихи Севы Константинова. Задумчивые и светлые. «Дорожка, перебегаемая гномом» Это из него. Стихи Михаила Свищева очень любил Леша Рафиев. Мне посчастливилось слышать, как у Светы Хромовой на «Литературном радио» свои стихи записывает Ольга Нечаева (любимое «Офелия»). Все было очень неожиданно и необычно. Мы просто стояли с Олей и смотрели друг на друга, даже не поговорили. Оля изменилась мало. Те же смеющиеся глаза и короткая стрижка.
В девяностые я очень хотел, чтобы мои стихи напечатали в журнале «Алконост», который выпускало это одноименное общество поэтов. Он был оригинальный, приятно было держать в руках. Ранние номера были чуть ли не на картоне, а поздние номера выпускали уже в типографии с ярким красно–зеленым символом Алконоста. Журналу уже лет тридцать. Не так давно вышел юбилейный номер. Но так и не сложилось.
Александр Переверзин, Ольга Нечаева и другие поэты позже создали знаковое издательство «Воймега», в котором издавались все значительные поэты моего поколения. Дома у меня лежит книга избранного Дениса Новикова и книга стихов Андрея Полякова, вышедшие в этом издательстве.
Из этого круга поэтов завсегдатаями Волошинского фестиваля были Ната Сучкова, Мария Суворова и Александр Переверзин. Ната Сучкова в один год победила в турнире поэтов (на Волошинском проходили турниры поэтов и турниры прозаиков), а Саша Переверзин не раз читал свои стихи с различных сцен Волошинского фестиваля. Вел он и мастер-классы. О Саше можно много писать, и о нем, и о его стихах. Культовыми были его стихи о чайнике и о папе.
В 2023 году он с миссией АСПИР вместе с Марией Базалеевой приезжал ко мне в Крым, мы посидели в Алуште, потом в Симферополе у меня в квартире проходил вечер любимого моего поэта Андрея Полякова.
Со всеми ними я пересекался в годы обучения в Литературном институте. Оля даже была у меня в московской квартире в Люблино, помнится мы обменивались видео-кассетами. С Михаилом Свищевым одно время писали в один журнал, что-то типа «Алло». На вечерах Андрея Чемоданова бывал неоднократно. Чемоданов каждый год отмечает в Зверевском центре Хелуин с черепами и атрибутами темной силы. У Леши Тиматкова и Кати Соболевой оставлял на передержу своего кота Феника. С Евгением Лесиным сталкивался в редакции «Независимой газеты», Ната Сучкова с Машей Суворовой останавливались проездом из Вологды у меня дома в Москве. С Гришей Петуховым дрался в подвале Литературного института в бытность, когда проректором по хозяйственной работе был Тиматков.
Драка была странная. Я не помню, из-за чего она началась. Видимо, из-за моего длинного языка.
Я как раз привстал и вдруг услышал свист кулака Петухова. У Гриши хороший джеб.
– На, – донеслось. А потом я завертелся, полетел, открыл спиной дверь в туалет и ударился затылком о край унитаза. Я лежал и смотрел в потолок. По потолку ползала зеленая жирная муха.
Но затылок во времена моей молодости у меня был крепкий. Я только крякнул, задумался и медленно произнес:
– Ничего себе.
Потом я потер затылок, выскочил из туалета и сбил высоченного двухметрового, тощего Гришу с ног.
Гриша завалился на стол. Я молотил его кулаками, но Гриша был не только высокий, но и очень вёрткий. Он вертелся, как уж на столе, ни один мой удар не доходил до его лица.
Я бил и бил, а Гриша Петухов вертелся и вертелся. Шло время. На стене в подвале тикали огромные часы. Секундная стрелка сделала ни один оборот.
И вдруг хрупкий, интеллигентный и образованнейший Гриша совершил замысловатое па ногами, и я снова отлетел к унитазу и снова ударился о него головой.
Я лежал и опять смотрел на зеленую жирную муху, которая ползала по потолку.
«Ничего себе», – снова подумал я.
– Ну хватит, – вдруг услышали мы голос Тиматкова.
– Ну хватит, – повторила Нечаева.
Я привстал, потер затылок и нос, ни синяков, ни царапин не было. Гриша тоже потер нос и ощупал лицо. У него тоже ни синяков, ни царапин не было.
Гриша, кстати, эту драку не помнит. Мы потом говорили с ним о ней уже в году 2020-ом в кафе «Жан-Жак», но Гриша ничего не помнил. Мы просто обнялись и посмеялись. Гриша же добрый, отзывчивый и доброжелательный человек.
Каждый поэт Алконоста заслуживает отдельного разговора. Мне ближе всего стихи Севы Константинова. Задумчивые и светлые. «Дорожка, перебегаемая гномом» Это из него. Стихи Михаила Свищева очень любил Леша Рафиев. Мне посчастливилось слышать, как у Светы Хромовой на «Литературном радио» свои стихи записывает Ольга Нечаева (любимое «Офелия»). Все было очень неожиданно и необычно. Мы просто стояли с Олей и смотрели друг на друга, даже не поговорили. Оля изменилась мало. Те же смеющиеся глаза и короткая стрижка.
В девяностые я очень хотел, чтобы мои стихи напечатали в журнале «Алконост», который выпускало это одноименное общество поэтов. Он был оригинальный, приятно было держать в руках. Ранние номера были чуть ли не на картоне, а поздние номера выпускали уже в типографии с ярким красно–зеленым символом Алконоста. Журналу уже лет тридцать. Не так давно вышел юбилейный номер. Но так и не сложилось.
Александр Переверзин, Ольга Нечаева и другие поэты позже создали знаковое издательство «Воймега», в котором издавались все значительные поэты моего поколения. Дома у меня лежит книга избранного Дениса Новикова и книга стихов Андрея Полякова, вышедшие в этом издательстве.
Из этого круга поэтов завсегдатаями Волошинского фестиваля были Ната Сучкова, Мария Суворова и Александр Переверзин. Ната Сучкова в один год победила в турнире поэтов (на Волошинском проходили турниры поэтов и турниры прозаиков), а Саша Переверзин не раз читал свои стихи с различных сцен Волошинского фестиваля. Вел он и мастер-классы. О Саше можно много писать, и о нем, и о его стихах. Культовыми были его стихи о чайнике и о папе.
В 2023 году он с миссией АСПИР вместе с Марией Базалеевой приезжал ко мне в Крым, мы посидели в Алуште, потом в Симферополе у меня в квартире проходил вечер любимого моего поэта Андрея Полякова.
Александр Переверзин
Мне обещали: ты умрёшь.
Но это ложь, да, это ложь,
ведь ночью, вызвав uber,
я до утра не умер.
У лирического героя поэзии Александра Переверзина странные отношения со смертью. Он сам не понимает: умер он или не умер. Это не скитание между миром живых и мертвых, не Чистилище, не Лимб или Араф. Это какой-то выдуманный мир поэта, который он сам же призывает и сам же отвергает. Такой дуализм сознания лирического героя Переверзина приводит одновременно к отрицанию мира земного и призыва к смерти и к восхвалению мира земного и ожиданию бессмертия.
Вот он говорит о нежном чувстве и сложном искусстве, которые разлиты в воздухе, слышит музыку, но одновременно констатирует, что память об этом чуде недолгая. Вот он видит ангела над головою, но почему-то облик ангела едва различим. Более того, как бы застряв между мирами, лирический герой Переверзина считает, что именно это состояние позволяет ему говорить с вершин невиданных высот.
Смерть у Переверзина пахнет известью и карбидом (сероводород и фосфин? запах серы?), то есть смерть – это проявление Ада, а никак не переход в мир иной, в мир Райский, но в то же время по своему выдуманному миру лирический герой Переверзина бродит в обнимку с Творцом и, видимо, ему (лирическому герою) абсолютно не страшно с этими высшими силами. Ему темно, но не страшно.
Получается он не верит в чудо, но, видимо, чудо в его жизни уже произошло, это какое-то прошлое чудо. Может быть, сам факт творения мира Перверзин считает чудом, или факт своей жизни, пусть и скитальческой, пусть его и постоянно тянет на погост, или в храмы, или к святым, или в Шатуру, слушать и ощущать церковный мир? Может – это и есть то чудо, которое фиксирует лирический герой Переверзина. Но почему же оно прошлое?
Мрачный северорусский Овидий, которого сжимают какие-то страшные тиски, но что это за тиски, которые, чем сильнее сжимают поэта, тем бессмертнее поэт становится? Что за тени видит лирический герой Переверзина, если он живет в обнимку с Творцом? Тени собственной тоски?
Но откуда эта среднерусская тоска? Откуда эти страдания и ощущения, будто ты плывешь в одиночестве в одноместном кораблике, если о тебе помнят высшие силы и ты не забыт?
Этот парадоксальный дуализм поэзии Переверзина остается не раскрытым.
Мы только можем предполагать о каком-то страшном (странном?) событии, которое произошло с лирическим героем Переверзина в прошлом. То ли чудо, то ли темная тайна.
и жизнь, как паучок живая,
и смерть похожа на часы.
Переверзин одновременно создал мир живой и разнообразный, мир яркий и дышащий: хрупкая скорлупка, огонь, сияние, полет шмеля, тихое, одинокое, непонятое слово, но почему-то считает, что миром правит пустота, а раз миром правит пустота, то лирический герой поэзии Переверзина постоянно сомневается нужен ли вообще этот мир. Нужен, Саша, нужен. Может быть, мы и не знаем, зачем нужен этот мир, но он нужен, потому что без знания того, что нужен этот мир, нас ожидает безмирие.
Мне обещали: погоди,
всё впереди, всё впереди,
заглохнет твой пропеллер.
Но я им не поверил.
И вот с этим обещанием нужности мира лирический герой Переверзина день изо дня едет в электричке из Люберец куда-то на восток, то ли в ожидании чуда грядущего, то ли в ощущении уже прошедшего чуда земного, как бы оберегая свой внутренний мир (а значит и весь мир в целом, потому что внутренний мир и есть целый мир) парадокса Переверзина от того внешнего мрака, от той пустоты, которая может навалиться, от которой не продохнешь, которая давит и давит, но никак не выдавит, потому что поэзия и есть тот мир, который построил Александр Переверзин.
Александр Перверзин не раз ездил на Волошинский фестиваль в Коктебель и был его лауреатом, вел мастер–классы и выступал с чтением своих стихов. Александр лет двадцать возглавлял издательство «Воймега», в котором вышли книги значимых поэтов моего поколения. Александр бережный хранитель поэтического мира многих стихотворцев: Денис Новиков, Александр Тимофеевский и др. Входит в редколлегию толстого литературного журнала «Просодия». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион» и др. Автор нескольких книг стихов.
Но это ложь, да, это ложь,
ведь ночью, вызвав uber,
я до утра не умер.
У лирического героя поэзии Александра Переверзина странные отношения со смертью. Он сам не понимает: умер он или не умер. Это не скитание между миром живых и мертвых, не Чистилище, не Лимб или Араф. Это какой-то выдуманный мир поэта, который он сам же призывает и сам же отвергает. Такой дуализм сознания лирического героя Переверзина приводит одновременно к отрицанию мира земного и призыва к смерти и к восхвалению мира земного и ожиданию бессмертия.
Вот он говорит о нежном чувстве и сложном искусстве, которые разлиты в воздухе, слышит музыку, но одновременно констатирует, что память об этом чуде недолгая. Вот он видит ангела над головою, но почему-то облик ангела едва различим. Более того, как бы застряв между мирами, лирический герой Переверзина считает, что именно это состояние позволяет ему говорить с вершин невиданных высот.
Смерть у Переверзина пахнет известью и карбидом (сероводород и фосфин? запах серы?), то есть смерть – это проявление Ада, а никак не переход в мир иной, в мир Райский, но в то же время по своему выдуманному миру лирический герой Переверзина бродит в обнимку с Творцом и, видимо, ему (лирическому герою) абсолютно не страшно с этими высшими силами. Ему темно, но не страшно.
Получается он не верит в чудо, но, видимо, чудо в его жизни уже произошло, это какое-то прошлое чудо. Может быть, сам факт творения мира Перверзин считает чудом, или факт своей жизни, пусть и скитальческой, пусть его и постоянно тянет на погост, или в храмы, или к святым, или в Шатуру, слушать и ощущать церковный мир? Может – это и есть то чудо, которое фиксирует лирический герой Переверзина. Но почему же оно прошлое?
Мрачный северорусский Овидий, которого сжимают какие-то страшные тиски, но что это за тиски, которые, чем сильнее сжимают поэта, тем бессмертнее поэт становится? Что за тени видит лирический герой Переверзина, если он живет в обнимку с Творцом? Тени собственной тоски?
Но откуда эта среднерусская тоска? Откуда эти страдания и ощущения, будто ты плывешь в одиночестве в одноместном кораблике, если о тебе помнят высшие силы и ты не забыт?
Этот парадоксальный дуализм поэзии Переверзина остается не раскрытым.
Мы только можем предполагать о каком-то страшном (странном?) событии, которое произошло с лирическим героем Переверзина в прошлом. То ли чудо, то ли темная тайна.
и жизнь, как паучок живая,
и смерть похожа на часы.
Переверзин одновременно создал мир живой и разнообразный, мир яркий и дышащий: хрупкая скорлупка, огонь, сияние, полет шмеля, тихое, одинокое, непонятое слово, но почему-то считает, что миром правит пустота, а раз миром правит пустота, то лирический герой поэзии Переверзина постоянно сомневается нужен ли вообще этот мир. Нужен, Саша, нужен. Может быть, мы и не знаем, зачем нужен этот мир, но он нужен, потому что без знания того, что нужен этот мир, нас ожидает безмирие.
Мне обещали: погоди,
всё впереди, всё впереди,
заглохнет твой пропеллер.
Но я им не поверил.
И вот с этим обещанием нужности мира лирический герой Переверзина день изо дня едет в электричке из Люберец куда-то на восток, то ли в ожидании чуда грядущего, то ли в ощущении уже прошедшего чуда земного, как бы оберегая свой внутренний мир (а значит и весь мир в целом, потому что внутренний мир и есть целый мир) парадокса Переверзина от того внешнего мрака, от той пустоты, которая может навалиться, от которой не продохнешь, которая давит и давит, но никак не выдавит, потому что поэзия и есть тот мир, который построил Александр Переверзин.
Александр Перверзин не раз ездил на Волошинский фестиваль в Коктебель и был его лауреатом, вел мастер–классы и выступал с чтением своих стихов. Александр лет двадцать возглавлял издательство «Воймега», в котором вышли книги значимых поэтов моего поколения. Александр бережный хранитель поэтического мира многих стихотворцев: Денис Новиков, Александр Тимофеевский и др. Входит в редколлегию толстого литературного журнала «Просодия». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион» и др. Автор нескольких книг стихов.
Ирина Евса и Анна Гедымин
Ирина Евса и Анна Гедымин столь значительные поэты, что каждая из них заслуживает отдельного воспоминания, но в моей памяти почему-то всплывает, как они приболели. Жили они в одном номере. Слово «приболели» до конца не отражает того состояния, в которое погружались многие славные персоналии на берегу Черного моря в Коктебеле. Неокрепшие организмы попадали в руки необъяснимой лихорадки, которая валила их как зубастый африканский вирус. Все это сопровождалось температурой и извержениями. Я, как давний гость фестиваля, хорошо знал все особенности этой лихорадки и всегда возил с собой большой запас всевозможных лекарств. У меня даже была своя методика, которую я опробовал на многих страдальцах. Сначала надо выпить 10 таблеток активированного угля, потом две таблетки аспирина, потом две таблетки парацетамола, потом таблетку энтерофурила, и на утро все будет замечательно. Именно эти события и послужили причиной моего сближения с Ириной Евсой и Анной Гедымин. Они потом так активно благодарили меня за спасение, что пришлось им запретить активно благодарить меня за спасение.
Ирина Евса читала стихи отстранённо. В её жизни было много мировоззренческих поворотов, но я ее помню, когда она представляла книгу «Юго-Восток» на Волошинском фестивале, за которую получила премию. Если честно это единственный поэт, при чтении стихов которого у меня выступали слезы. Она вела мастер-классы и была в жюри.
Анна Гедымин восторженный поэт, поэт восторга. Она так необъяснимо открыта миру, что каждое мгновение проживает в невероятной радости. В ней живет большой ребенок, и это очень важно для писателя, для поэта. С Анной Гедымин я много раз пересекался в Москве в Доме-музее Булгакова и всегда рад ее видеть и слышать ее чудесные стихи.
Ирина Евса читала стихи отстранённо. В её жизни было много мировоззренческих поворотов, но я ее помню, когда она представляла книгу «Юго-Восток» на Волошинском фестивале, за которую получила премию. Если честно это единственный поэт, при чтении стихов которого у меня выступали слезы. Она вела мастер-классы и была в жюри.
Анна Гедымин восторженный поэт, поэт восторга. Она так необъяснимо открыта миру, что каждое мгновение проживает в невероятной радости. В ней живет большой ребенок, и это очень важно для писателя, для поэта. С Анной Гедымин я много раз пересекался в Москве в Доме-музее Булгакова и всегда рад ее видеть и слышать ее чудесные стихи.
Ганна Шевченко
– Как мой дуб? – спрашиваю я в вотсапе Ганну Шевченко.
Ганна шлет мне фотографии дуба. Дуб я посадил лет 12 назад на своем дачном участке в Подмосковье, в деревне Давыдово, который сейчас достался Ганне Шевченко и Сергею Золотареву.
– Большой совсем, – пишет Ганна.
– Ты обещала его не рубить.
– Мы никогда его рубить не будем, Слава, это же твой дуб, – пишет Ганна.
С Ганной, которую я зачастую зову просто Аня, я познакомился на Волошинском фестивале в начале нулевых. Она была совсем юной и приехала из небольшого шахтерского городка. Тогда Аня писала обычные стихи и ничто предвещало, что она вырастет в большого поэта и замечательного прозаика. Ее повесть «Шахтерская глубокая» удостоилась премии имени Фазиля Искандера и престижной итальянской премии «Радуга». Несмотря на актуальное название повести, описывается в ней старинная готическая шахтерская легенда о духе шахтера Шубина, который живет глубоко под землей и заманивает в подземные недра неокрепшие человеческие души.
Мой дуб когда-то был совсем тоненьким, с мизинец толщиной, а сейчас это огромное дерево, под которым князю Андрею было бы не стыдно прочитать свой знаменитый монолог.
– У нас в Подмосковье грибы пошли.
– Подосиновики?
– Подосиновики, рыжики, опята, полно просто.
Здесь на юге я лишен радости сбора подмосковных грибов. Виноград собираю, абрикосы собираю, иногда дикий инжир, а грибы высоко в горах, на Перевале. Да и южные грибы сами по себе какие-то странные. В средней полосе я бы прошел мимо и не заметил.
Книга стихов Ани «Домохозяйкин блюз» в миг стала библиографической редкостью и повествует о метафизических глубинах жизни домохозяйки. Борщ сравнивается со Вселенной, а помешивание половником вдруг образует спирали нашей Галактики. Я помню, как Аня выступала со стихами из этой книги в редакции журнала «Новый мир».
Но все-таки в начале у Ани была проза. Ее книга малой прозы «Подъемные краны» вышла в 2009 году. Ранняя проза Шевченко — это абсурдизм в чистом виде, что-то ОБЭРИУтское слышится в ней.
С Аней я много лет ходил на семинар прозы Светланы Василенко в Булгаковском доме, там мы и подружились и сблизились.
Еще у Ганны на даче растет яблоня. В первый раз она дала необычайный урожай сладких огромных поздних яблок. Они висели как стоваттные лампочки на высоченном дереве. Видимо, Аня сварила из них варенье.
На следующий год яблоня не уродила, и Аня с Сережой спрашивали меня, что же делать. Но что делать, что делать? Яблони родят не каждый год. Пусть каждый год у тебя Аня выходят и выходят новые книжки.
Ганна шлет мне фотографии дуба. Дуб я посадил лет 12 назад на своем дачном участке в Подмосковье, в деревне Давыдово, который сейчас достался Ганне Шевченко и Сергею Золотареву.
– Большой совсем, – пишет Ганна.
– Ты обещала его не рубить.
– Мы никогда его рубить не будем, Слава, это же твой дуб, – пишет Ганна.
С Ганной, которую я зачастую зову просто Аня, я познакомился на Волошинском фестивале в начале нулевых. Она была совсем юной и приехала из небольшого шахтерского городка. Тогда Аня писала обычные стихи и ничто предвещало, что она вырастет в большого поэта и замечательного прозаика. Ее повесть «Шахтерская глубокая» удостоилась премии имени Фазиля Искандера и престижной итальянской премии «Радуга». Несмотря на актуальное название повести, описывается в ней старинная готическая шахтерская легенда о духе шахтера Шубина, который живет глубоко под землей и заманивает в подземные недра неокрепшие человеческие души.
Мой дуб когда-то был совсем тоненьким, с мизинец толщиной, а сейчас это огромное дерево, под которым князю Андрею было бы не стыдно прочитать свой знаменитый монолог.
– У нас в Подмосковье грибы пошли.
– Подосиновики?
– Подосиновики, рыжики, опята, полно просто.
Здесь на юге я лишен радости сбора подмосковных грибов. Виноград собираю, абрикосы собираю, иногда дикий инжир, а грибы высоко в горах, на Перевале. Да и южные грибы сами по себе какие-то странные. В средней полосе я бы прошел мимо и не заметил.
Книга стихов Ани «Домохозяйкин блюз» в миг стала библиографической редкостью и повествует о метафизических глубинах жизни домохозяйки. Борщ сравнивается со Вселенной, а помешивание половником вдруг образует спирали нашей Галактики. Я помню, как Аня выступала со стихами из этой книги в редакции журнала «Новый мир».
Но все-таки в начале у Ани была проза. Ее книга малой прозы «Подъемные краны» вышла в 2009 году. Ранняя проза Шевченко — это абсурдизм в чистом виде, что-то ОБЭРИУтское слышится в ней.
С Аней я много лет ходил на семинар прозы Светланы Василенко в Булгаковском доме, там мы и подружились и сблизились.
Еще у Ганны на даче растет яблоня. В первый раз она дала необычайный урожай сладких огромных поздних яблок. Они висели как стоваттные лампочки на высоченном дереве. Видимо, Аня сварила из них варенье.
На следующий год яблоня не уродила, и Аня с Сережой спрашивали меня, что же делать. Но что делать, что делать? Яблони родят не каждый год. Пусть каждый год у тебя Аня выходят и выходят новые книжки.
Алексей Алёхин
В молодости я писал стихи. Я честно носил свои стихи в журналы «Новый мир», «Знамя», «Дружбу народов» и «Октябрь», но их нигде не брали. Тогда мне Ян Шенкман посоветовал отнести стихи в журнал Арион. Я как раз в 1998 году написал новую поэму «Тьма» и считал ее прорывом в области написания стихов. Мне конечно хотелось ее отнести в «Новый мир» Андрею Витальевичу Василевскому или в «Знамя» Ольге Юрьевна Ермолаевой, и я долго сомневался, но все-таки решил попробовать журнал «Арион». Яна Шенкмана я очень уважал и прислушался к его совету. Журнал «Арион» все хвалили. Во-первых, там главный редактор лично принимал поэтов, во-вторых, он их не гнал из кабинета, а любил посидеть с ними, попить чай и даже выпить коньяка. Выпить чай с главным редактором поэтического журнала – это было неплохо, и я пошел в журнал «Арион».
Было морозное утро, я шел по набережной Москвы-реки, долго искал стильный особняк, а когда вошел, то там оказалось именно так, как рассказывали. За огромным дубовым столом сидел редактор (Алексей Давидович Алехин) в оранжевой бабочке, вокруг его стола столпились молодые поэты, они пили чай и обсуждали поэзию. Какое-то время я стоял у порога и мялся, но меня заметили:
– Вы к кому, – спросил меня главный редактор.
Я не знал, как зовут Алексея Давидовича и поэтому мрачно, застенчиво и тихо произнес:
– У меня стихи.
Все замерли. Ложки перестали звенеть в стаканах с чаем.
Алексей Давидович немного подумал и произнес:
– Ну-с, давайте-с.
Я достал рукопись (а тогда бумажные рукописи носили в редакции, а не отправляли по электронной почте) и положил ее на стол перед главным редактором:
Все замерли. Алексей Давидович углубился в чтение (да прямо при мне!) и вдруг громко крякнул:
– Ого!
Я взбодрился. На звук его ого сбежались молодые поэты, которые в это время пили чай вокруг главного редактора, они тоже склонились над рукописью. Рукопись пошла по рукам.
Я уже ощущал, что меня безусловно напечатают.
– Ну и кто это первый сделал? – вдруг спросил Алексей Давидович.
Все стали оглядываться. Кто-то неуверенно сказал:
– Нарбут?
– Нет, Нельдихин, – сказал кто-то другой.
Главный редактор хмуро мотнул головой.
Я уже понимал, что меня напечатают.
– Так кто? – еще раз строго сказал Алексей Давидович, тыкая в мою рукопись.
Посыпались еще фамилии. Редактор все это время мотал головой. Разыгрался бурный спор, все спорили и махали руками.
Я кхыкнул и спросил:
– Так вы меня печатаете?
– Нет, конечно, – ответил Алексей Давидович.
Я был в недоумении, в недоумении и ушел. Позже знакомые мне все объяснили.
Я в своей рукописи стихи расположил не по левому краю, а по центру, использовав возможности Ворда. И вот, оказывается, Алексей Давидович и присутствующие там поэты просто вспоминали, кто из поэтов Серебряного века впервые расположил стихи по центру.
Алексей Давидович Алехин приезжал на Волошинский фестиваль с поэтом Владимиром Салимоном один раз в 2015 году. Он читал стихи и вёл мастер-классы. Один мой стих в журнале «Арион» Алексей Давидович в 2001 году все-таки опубликовал.
Было морозное утро, я шел по набережной Москвы-реки, долго искал стильный особняк, а когда вошел, то там оказалось именно так, как рассказывали. За огромным дубовым столом сидел редактор (Алексей Давидович Алехин) в оранжевой бабочке, вокруг его стола столпились молодые поэты, они пили чай и обсуждали поэзию. Какое-то время я стоял у порога и мялся, но меня заметили:
– Вы к кому, – спросил меня главный редактор.
Я не знал, как зовут Алексея Давидовича и поэтому мрачно, застенчиво и тихо произнес:
– У меня стихи.
Все замерли. Ложки перестали звенеть в стаканах с чаем.
Алексей Давидович немного подумал и произнес:
– Ну-с, давайте-с.
Я достал рукопись (а тогда бумажные рукописи носили в редакции, а не отправляли по электронной почте) и положил ее на стол перед главным редактором:
Все замерли. Алексей Давидович углубился в чтение (да прямо при мне!) и вдруг громко крякнул:
– Ого!
Я взбодрился. На звук его ого сбежались молодые поэты, которые в это время пили чай вокруг главного редактора, они тоже склонились над рукописью. Рукопись пошла по рукам.
Я уже ощущал, что меня безусловно напечатают.
– Ну и кто это первый сделал? – вдруг спросил Алексей Давидович.
Все стали оглядываться. Кто-то неуверенно сказал:
– Нарбут?
– Нет, Нельдихин, – сказал кто-то другой.
Главный редактор хмуро мотнул головой.
Я уже понимал, что меня напечатают.
– Так кто? – еще раз строго сказал Алексей Давидович, тыкая в мою рукопись.
Посыпались еще фамилии. Редактор все это время мотал головой. Разыгрался бурный спор, все спорили и махали руками.
Я кхыкнул и спросил:
– Так вы меня печатаете?
– Нет, конечно, – ответил Алексей Давидович.
Я был в недоумении, в недоумении и ушел. Позже знакомые мне все объяснили.
Я в своей рукописи стихи расположил не по левому краю, а по центру, использовав возможности Ворда. И вот, оказывается, Алексей Давидович и присутствующие там поэты просто вспоминали, кто из поэтов Серебряного века впервые расположил стихи по центру.
Алексей Давидович Алехин приезжал на Волошинский фестиваль с поэтом Владимиром Салимоном один раз в 2015 году. Он читал стихи и вёл мастер-классы. Один мой стих в журнале «Арион» Алексей Давидович в 2001 году все-таки опубликовал.
Елена Усачева
– Дети, вы кто, – громко и задорно кричит Елена Усачева в мегафон, и дети, идущие за ней колоннами и толпами, громко и задорно отвечают:
– Мы волошинцы!
– Дети, мы где? – опять, веселясь и смеясь, спрашивает у детей Елена Усачева. Она говорит чётко и звонко, мне кажется ей даже не нужен мегафон.
– Мы в волошинском Крыму, – отвечают Лене дети.
Где бы ни появилась Лена Усачева, за ней следуют дети. Если в советском литературоведении был раздел "Ленин и дети", то в российском литературоведении обязательно будет раздел "Лена и дети".
Детям Лена читает стихи Агнии Барто и Лукомникова, читает собственную прозу, водит детей по литературным местам и рассказывает истории о писателях прошлого и настоящего.
К детям Лена летает по всей стране Калининград, Ростов, Санкт–Петербург, Челябинск, Красноярск, Барнаул, Анадырь и Владивосток.
Не удивлюсь, что Лена летает и к заграничным детям: сербские дети, французские дети, габонские дети, китайские дети и чилийские дети.
Однажды подул холодный северный ветер. Море в Коктебельской бухте взволновалось, спасатели закрывали пляжи, МЧС засыпало все мобильные телефоны предупреждениями о шквалистом ветре и надвигающемся шторме, огромные пятиметровые волны обрушились на побережье.
Я стоял на балконе гостиницы Камелия-Кафа и в страхе смотрел вдаль. Вдруг я услышал:
– А пойдём купаться, – это была Лена Усачева.
– Чего? – переспросил я и тревожно посмотрел на Лену.
– Купаться пойдёшь? – повторила Усачева.
– Куда?
– В море!
– Там шторм, – сказал я и поёжился.
– Ха, разве это шторм, – ответила Усачева, взяла купальник, полотенце и пошла купаться в шторм.
Я долго ещё наблюдал с берега, как она каталась на волнах, взбиралась на самые высокие гребни и с диком восторгом сигала с них в глубины штормового Чёрного моря.
Вот таких детских писателей вырастил Волошинский Коктебель!
Мне кажется, мы знакомы давно, очень давно, ведь Волошинскому фестивалю не менее 20-ти лет. Вот двадцать лет и знакомы! Уже у детей, которым Лена двадцать лет назад читала свои книги, родились свои дети, уже сменились эпохи и страны, вот как мы давно знакомы!
– Мы волошинцы!
– Дети, мы где? – опять, веселясь и смеясь, спрашивает у детей Елена Усачева. Она говорит чётко и звонко, мне кажется ей даже не нужен мегафон.
– Мы в волошинском Крыму, – отвечают Лене дети.
Где бы ни появилась Лена Усачева, за ней следуют дети. Если в советском литературоведении был раздел "Ленин и дети", то в российском литературоведении обязательно будет раздел "Лена и дети".
Детям Лена читает стихи Агнии Барто и Лукомникова, читает собственную прозу, водит детей по литературным местам и рассказывает истории о писателях прошлого и настоящего.
К детям Лена летает по всей стране Калининград, Ростов, Санкт–Петербург, Челябинск, Красноярск, Барнаул, Анадырь и Владивосток.
Не удивлюсь, что Лена летает и к заграничным детям: сербские дети, французские дети, габонские дети, китайские дети и чилийские дети.
Однажды подул холодный северный ветер. Море в Коктебельской бухте взволновалось, спасатели закрывали пляжи, МЧС засыпало все мобильные телефоны предупреждениями о шквалистом ветре и надвигающемся шторме, огромные пятиметровые волны обрушились на побережье.
Я стоял на балконе гостиницы Камелия-Кафа и в страхе смотрел вдаль. Вдруг я услышал:
– А пойдём купаться, – это была Лена Усачева.
– Чего? – переспросил я и тревожно посмотрел на Лену.
– Купаться пойдёшь? – повторила Усачева.
– Куда?
– В море!
– Там шторм, – сказал я и поёжился.
– Ха, разве это шторм, – ответила Усачева, взяла купальник, полотенце и пошла купаться в шторм.
Я долго ещё наблюдал с берега, как она каталась на волнах, взбиралась на самые высокие гребни и с диком восторгом сигала с них в глубины штормового Чёрного моря.
Вот таких детских писателей вырастил Волошинский Коктебель!
Мне кажется, мы знакомы давно, очень давно, ведь Волошинскому фестивалю не менее 20-ти лет. Вот двадцать лет и знакомы! Уже у детей, которым Лена двадцать лет назад читала свои книги, родились свои дети, уже сменились эпохи и страны, вот как мы давно знакомы!



